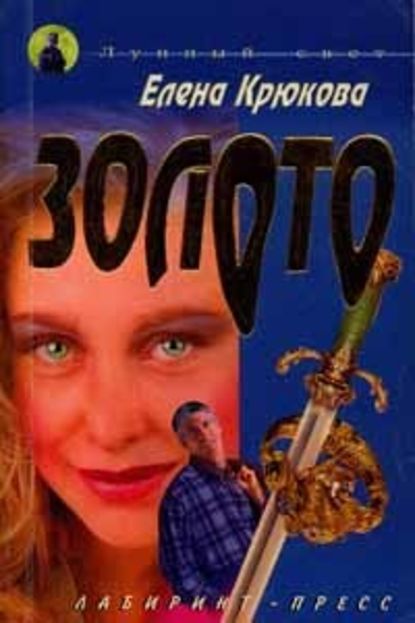По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Золото
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Люди не боги, господин профессор Задорожный, ой, не боги. Ты загнул, казак, не ту оглоблю. Древний царь неведомой земли! И ты! Три отрока горели в пещи Вавилонской, Сусанна купалась в бассейне, а старцы глядели на нее… А вы были братья, там, на небе, как две звезды. Ой, бредишь ты, Роман Игнатьич! Рюмочку бы тебе сейчас хлобыстнуть… родной горилки, с красным перчиком…
Дверь стукнула. В камору вошел тот, гладкорожий. До чего выхолен, гад, а. В руке револьвер. Он поигрывал им, мял его, как эспандер.
– Хороша мордочка, ты не находишь, профессор?.. – Фарфоровый манекен ткнул стволом револьвера в золотую скулу. – Ты уже определил, кто это?.. долго, долго ты копаешься… запоминаешь во всех подробностях все?.. все равно тебе спецы не поверят, а народ ты заинтригуешь… народ, он падок на рекламку, как муха на мед… ты понял, почему мы тебя тут держим, знаменитость недорезанная?!..
Задорожный, подняв голову от маски, что держал по-прежнему в руках – пальцы побелели от напряженья, – тупо, тускло поглядел на красавца. Он молодой, а ты старый, Роман. Все его – при нем. Вся жизнь – при нем. А у тебя – уже на дне дорожной торбы. На дне сундука. Вот она вся, твоя жизнь – твоя золотая маска.
– Я попрошу тебя, подонок, выпустить меня отсюда сразу же, как я закончу изученье этой уникальной…
– Не бойся, папаша, все твои записки сумасшедшего отксерокопируют и к делу пришьют! – Фарфоровый откровенно смеялся. Револьвер блестел черно, лаково. – Если ты не допер еще, что к чему, значит, ты совсем дурак… или святой!.. Вас в Совдепии всех святыми воспитывали… А мы не хотим возносить хвалы властелину, когда тот нас колесует. Мы сами хотим его колесовать. И сами будем властвовать. Да мы уже владеем всем. А вы, идеалисты…
– Да, мы идеалисты. У нас была Вифлеемская звезда, пащенок, – холодными губами проговорил Роман. Положил маску на дощатый стол. – Не красная, гад, запомни – Вифлеемская. К какой звезде идете вы?! К Богу или к маммоне?!
Фарфоровый, глумясь, приставил револьвер к его виску. Роман вздрогнул от прикосновенья ледяного дула.
– Ты, кончай забавляться…
– Кончаю. – Красавчик отступил на шаг, оценивающе обмерил глазами голого, потного, в одних плавках, Романа. – Жизнь бесконечна, запомни. И в ней все забавляются. Каждый кейфует, как может. Хочешь поразвлечься, профессор?.. – Он протопал к двери, припечатывая половицы тяжелыми, похожими на военные, ботинками, резко распахнул ее, свистнул, будто подзывал собаку. На свист отозвалось шуршанье ткани. Чьи-то ножки просеменили по коридору. – Я так догадался – тебе приглянулась наша Хрисула, так получи ее… ты поработал славно, отдохни, ты заслужил… это тебе вместо вечерних фиников…
Задорожный отшатнулся. В дверь вошла гречанка. На ней была длинная черная шелковая юбка, расшитая по подолу золотыми звездами. Грудь и спина были обнажены. До пояса на ней не было надето ничего.
Критский наряд, прошелестели его враз пересохшие губы. Они нарядили ее древней критянкой. Зачем этот маскарад?.. Ну да, это же ее работа… каждый отрабатывает свой хлеб, как умеет… ей, бедняжке, платят за это… Господи, каково же быть женщиной на этой земле.
– Оставляю вас вдвоем, голубки, поворкуйте, – хохотнул фарфоровый, шагнул за порог. – Замечаю время. Если что не понравится – ты нам, папаша, скажи. Исправим.
Дверь нагло хлопнула. Они остались в каморе одни.
Он подошел к Хрисуле, подошел близко, дерзко. Его грудь была гола и мокра. Ее – поднималась часто, порывисто. Вокруг сосков мерцали темные круги. От ее тела сильно пахло розовым маслом.
Они стояли близко друг к другу, и он чувствовал ее тепло. Она слегка приоткрыла рот, глядя на него, и под губой у нее чуть поблескивали зубки, как у зверька.
– Ты давно на них работаешь?..
Он спросил это тихо, по-английски. Она не опустила глаз. Он рассмотрел ее глаза. Карие радужки с золотыми крапинами. Чуть синеватые белки. Веки чуть скошены к вискам, как у царской маски.
– Давно, – выдохнула она. – Это русская антикварная… археологическая мафия. Они изловили меня в Стамбуле, в ресторане. Они тогда работали в Греции. В Греции раскопали уже все, что можно раскопать. Турция была еще терра инкогнита. Турция дикая, тут много диких, заброшенных мест, как в России, пустынные пространства. Хеттам было где разгуляться. Османцам тоже.
Она смотрела на его голую грудь. Подняла руку, провела ладонью по выпуклой пластине мышцы. Рука заскользила, как по маслу.
– Ты вспотел…
– Не виляй. Ты не ресторанная шлюшка. Ты хорошо образована. Где ты училась?.. В Чикаго?.. В Виндзоре?..
– Тебе незачем это знать. Шлюхи тоже могут быть весьма образованы.
Он вспомнил знаменитых гетер – Аспазию, Таис, Сапфо, Лесбию. Устыдился. Почему бы девочке не знать английский, не знать историю своей родины. Она же не вокзальная подстилка за динар. Она отловила его в поезде, сыграв не хуже, чем в голливудском кино. А сейчас? Она играет и сейчас?.. Или она пришла к нему потому, что хочет его?.. Она не снимала руку с его груди. Рука скользила все ниже. Она с ним одного роста. Как все пошло, плоско, страшно. Вон оно, его ложе – нищая деревенская постель, укрытая овечьим вязаным одеялом. И керосиновая лампа мигает, тлеет. Светильник, древний лампион.
– Как ты думаешь… – Он спросил то, что не должен был спрашивать. – Я останусь жив? Меня убьют?..
Она подалась чуть вперед. Ее приподнятые соски коснулись его торчащих под кожей ребер. Да, мощен и строен божественный царь бесконечных просторов, тысячу жен он имел и пятьсот чернокудрых наложниц. Ее прикосновенье заставило его дернуться всем телом. Внутри него, как в светильнике, зажегся огонь. Продажная тварь! Она получает за это деньги! Деньги…
– Я не знаю. Я ничего не знаю, поверь мне. Если бы знала – сказала.
Он схватил ее в объятья. Он сам не помнил, как у него это вырвалось:
– Спаси меня! Освободи!
Она легко потрогала губами его потную ключицу.
– Но тогда убьют меня. Доктор Касперский сначала поимеет меня, потом выстрелит мне в живот, потом в рот. Он сам так сказал. Он знал, что ты меня об этом попросишь.
Он изругался вслух по-русски. Потом добавил по-английски: fucking mother. Хрисула кротко заглянула ему в глаза. Потом нагло просунула руку ему между ног.
– Мы теряем время, профессор. Я же вижу – ты хочешь меня. Зачем людям притворяться.
Он застонал, весь искривился, с силой, преодолевая невидимое страшное препятствие, будто толкал телегу, отшвырнул ее от себя.
– Затем, что если б люди совокуплялись под каждым забором, Бог бы совсем отвернулся от земли. Я же здесь истязуемый! И ты приходишь сюда по приказу истязателей! Где же тут наслажденье, Хрисула! – Он уже хрипло кричал, не сдерживаясь, как пьяный. – Где же тут удовольствие! Или ты машина! Ты механическая кукла! Ты просто классная проститутка, и тебе все равно, кто движется в тебе, кто насаживает тебя на себя, под какой лавкой ты раздвигаешь ноги!
Она опять подалась к нему, к его искаженному лицу. Ловила его за руки. Ее пот, смешавшись с растекшимся по телу розовым маслом, ударил ему в ноздри.
– Ты думаешь, я только раздвигаю ноги, да… да, я действительно их раздвигаю… я раздвигаю их всю жизнь… всю жизнь!.. и это меня Бог создал такой, да, такой… а зачем же он меня такой вот создал, а?!.. за мои грехи?!.. но ведь я была маленькой хорошенькой девочкой, я не грешила, я ходила в школу, я вышивала и вязала, я любила маму и бабушку… я не хотела раздвигать ноги перед каждым, слышишь?!.. мы никто этого не хотим!.. но так получается, так все выходит, так…
Она поймала его руку, не выпускала. Он сжал ее руку до хруста. Вспомнил, как сжимал ее руку в поезде. Она опять положила ему другую руку на потный, поджарый живот, ощупала напряженные до боли мышцы, прижала ладонью. Он застонал.
– Это невозможно… так же нельзя, Хрисула… что ты делаешь…
Она встала на колени перед ним. Он положил руки ей на плечи, потом, сжав обеими руками ее виски, отодвинул от себя ее голову, ее жаждущие, протянутые, продажные губы. Она в ярости хотела встать, ударить его по щеке – он это понял, почувствовал, как напряглась, готовая взлететь, ее смуглая рука; он опередил ее, упал на колени рядом с ней. Два голых человека на коленях друг перед другом. Ее черная юбка разлетелась в стороны – искусный разрез, браво портному. Он видел, как блестят на черных курчавых волосках между ног капельки влаги.
– Я хочу тебя, – прохрипела она ненавидяще, – а ты не…
– Я не оскорбляю тебя. – Он положил ладонь ей на рот, заклеив его, готовый вытолкнуть крики, ругательства. Она сперва укусила ладонь, потом поцеловала. – Я хочу тебе помочь. Я хочу… я не знаю, что… я хочу, чтобы все было не так!.. не так… ведь есть же, есть же, в конце концов, Бог, так опоганенный, так… – он подыскивал английское слово, – так оплеванный нами…
Она согнулась. Спина ее выгнулась голым живым колесом. Лопатки торчали беспомощно. Она зарыдала, упрятав лицо в ладони. Может быть, ее слезы – яблочный сок? Он погладил ее по загривку, как зверя – там, где торчал позвонок и дорожка золотистого пушка сбегала вниз по хребту между лопаток.
– Бог, Бог… – пробормотала она по-английски, потом добавила по-гречески: – Теос… Где пребывает Бог, когда на земле люди убивают именем Его?! Когда люди готовы удавиться за золото, как эти… мои хозяева… за мертвые, никому не нужные желтые слитки, на которые можно купить все, все, ты понимаешь, профессор, – все!..
Он взял ее голову в ладони, стоя перед ней на коленях. Заглянул ей в глаза, блестевшие от слез. Синеватые белки светились. Соленая влага катилась по скулам, по подбородку. Он наклонился и слизнул слезу.
– Соленая, – прошептал он. – Как море.
Она рванула на себе юбку. Взяла его руку и положила себе на живот, горячий, как печка.
– Я сама как море… я вся прибой… хочешь – проверь…
Она стала целовать его, еле касаясь губами губ. Он целовал распухшие от слез губы, прижимая пылающий живот к ее продажному бедному животу, мгновенно и остро жалея ее, смертельно и жадно желая ее всю, сейчас, сразу, без остатка, и, кладя ее на холодные грязные половицы, не на утлое тюремное ложе, узкое, как долбленка, он подумал о том, что вот Бог, наверное, и есть любовь, если только этим люди могут сказать друг другу то, что не могут вымолвить языком; утешить и простить друг друга.
… … …
Дверь стукнула. В камору вошел тот, гладкорожий. До чего выхолен, гад, а. В руке револьвер. Он поигрывал им, мял его, как эспандер.
– Хороша мордочка, ты не находишь, профессор?.. – Фарфоровый манекен ткнул стволом револьвера в золотую скулу. – Ты уже определил, кто это?.. долго, долго ты копаешься… запоминаешь во всех подробностях все?.. все равно тебе спецы не поверят, а народ ты заинтригуешь… народ, он падок на рекламку, как муха на мед… ты понял, почему мы тебя тут держим, знаменитость недорезанная?!..
Задорожный, подняв голову от маски, что держал по-прежнему в руках – пальцы побелели от напряженья, – тупо, тускло поглядел на красавца. Он молодой, а ты старый, Роман. Все его – при нем. Вся жизнь – при нем. А у тебя – уже на дне дорожной торбы. На дне сундука. Вот она вся, твоя жизнь – твоя золотая маска.
– Я попрошу тебя, подонок, выпустить меня отсюда сразу же, как я закончу изученье этой уникальной…
– Не бойся, папаша, все твои записки сумасшедшего отксерокопируют и к делу пришьют! – Фарфоровый откровенно смеялся. Револьвер блестел черно, лаково. – Если ты не допер еще, что к чему, значит, ты совсем дурак… или святой!.. Вас в Совдепии всех святыми воспитывали… А мы не хотим возносить хвалы властелину, когда тот нас колесует. Мы сами хотим его колесовать. И сами будем властвовать. Да мы уже владеем всем. А вы, идеалисты…
– Да, мы идеалисты. У нас была Вифлеемская звезда, пащенок, – холодными губами проговорил Роман. Положил маску на дощатый стол. – Не красная, гад, запомни – Вифлеемская. К какой звезде идете вы?! К Богу или к маммоне?!
Фарфоровый, глумясь, приставил револьвер к его виску. Роман вздрогнул от прикосновенья ледяного дула.
– Ты, кончай забавляться…
– Кончаю. – Красавчик отступил на шаг, оценивающе обмерил глазами голого, потного, в одних плавках, Романа. – Жизнь бесконечна, запомни. И в ней все забавляются. Каждый кейфует, как может. Хочешь поразвлечься, профессор?.. – Он протопал к двери, припечатывая половицы тяжелыми, похожими на военные, ботинками, резко распахнул ее, свистнул, будто подзывал собаку. На свист отозвалось шуршанье ткани. Чьи-то ножки просеменили по коридору. – Я так догадался – тебе приглянулась наша Хрисула, так получи ее… ты поработал славно, отдохни, ты заслужил… это тебе вместо вечерних фиников…
Задорожный отшатнулся. В дверь вошла гречанка. На ней была длинная черная шелковая юбка, расшитая по подолу золотыми звездами. Грудь и спина были обнажены. До пояса на ней не было надето ничего.
Критский наряд, прошелестели его враз пересохшие губы. Они нарядили ее древней критянкой. Зачем этот маскарад?.. Ну да, это же ее работа… каждый отрабатывает свой хлеб, как умеет… ей, бедняжке, платят за это… Господи, каково же быть женщиной на этой земле.
– Оставляю вас вдвоем, голубки, поворкуйте, – хохотнул фарфоровый, шагнул за порог. – Замечаю время. Если что не понравится – ты нам, папаша, скажи. Исправим.
Дверь нагло хлопнула. Они остались в каморе одни.
Он подошел к Хрисуле, подошел близко, дерзко. Его грудь была гола и мокра. Ее – поднималась часто, порывисто. Вокруг сосков мерцали темные круги. От ее тела сильно пахло розовым маслом.
Они стояли близко друг к другу, и он чувствовал ее тепло. Она слегка приоткрыла рот, глядя на него, и под губой у нее чуть поблескивали зубки, как у зверька.
– Ты давно на них работаешь?..
Он спросил это тихо, по-английски. Она не опустила глаз. Он рассмотрел ее глаза. Карие радужки с золотыми крапинами. Чуть синеватые белки. Веки чуть скошены к вискам, как у царской маски.
– Давно, – выдохнула она. – Это русская антикварная… археологическая мафия. Они изловили меня в Стамбуле, в ресторане. Они тогда работали в Греции. В Греции раскопали уже все, что можно раскопать. Турция была еще терра инкогнита. Турция дикая, тут много диких, заброшенных мест, как в России, пустынные пространства. Хеттам было где разгуляться. Османцам тоже.
Она смотрела на его голую грудь. Подняла руку, провела ладонью по выпуклой пластине мышцы. Рука заскользила, как по маслу.
– Ты вспотел…
– Не виляй. Ты не ресторанная шлюшка. Ты хорошо образована. Где ты училась?.. В Чикаго?.. В Виндзоре?..
– Тебе незачем это знать. Шлюхи тоже могут быть весьма образованы.
Он вспомнил знаменитых гетер – Аспазию, Таис, Сапфо, Лесбию. Устыдился. Почему бы девочке не знать английский, не знать историю своей родины. Она же не вокзальная подстилка за динар. Она отловила его в поезде, сыграв не хуже, чем в голливудском кино. А сейчас? Она играет и сейчас?.. Или она пришла к нему потому, что хочет его?.. Она не снимала руку с его груди. Рука скользила все ниже. Она с ним одного роста. Как все пошло, плоско, страшно. Вон оно, его ложе – нищая деревенская постель, укрытая овечьим вязаным одеялом. И керосиновая лампа мигает, тлеет. Светильник, древний лампион.
– Как ты думаешь… – Он спросил то, что не должен был спрашивать. – Я останусь жив? Меня убьют?..
Она подалась чуть вперед. Ее приподнятые соски коснулись его торчащих под кожей ребер. Да, мощен и строен божественный царь бесконечных просторов, тысячу жен он имел и пятьсот чернокудрых наложниц. Ее прикосновенье заставило его дернуться всем телом. Внутри него, как в светильнике, зажегся огонь. Продажная тварь! Она получает за это деньги! Деньги…
– Я не знаю. Я ничего не знаю, поверь мне. Если бы знала – сказала.
Он схватил ее в объятья. Он сам не помнил, как у него это вырвалось:
– Спаси меня! Освободи!
Она легко потрогала губами его потную ключицу.
– Но тогда убьют меня. Доктор Касперский сначала поимеет меня, потом выстрелит мне в живот, потом в рот. Он сам так сказал. Он знал, что ты меня об этом попросишь.
Он изругался вслух по-русски. Потом добавил по-английски: fucking mother. Хрисула кротко заглянула ему в глаза. Потом нагло просунула руку ему между ног.
– Мы теряем время, профессор. Я же вижу – ты хочешь меня. Зачем людям притворяться.
Он застонал, весь искривился, с силой, преодолевая невидимое страшное препятствие, будто толкал телегу, отшвырнул ее от себя.
– Затем, что если б люди совокуплялись под каждым забором, Бог бы совсем отвернулся от земли. Я же здесь истязуемый! И ты приходишь сюда по приказу истязателей! Где же тут наслажденье, Хрисула! – Он уже хрипло кричал, не сдерживаясь, как пьяный. – Где же тут удовольствие! Или ты машина! Ты механическая кукла! Ты просто классная проститутка, и тебе все равно, кто движется в тебе, кто насаживает тебя на себя, под какой лавкой ты раздвигаешь ноги!
Она опять подалась к нему, к его искаженному лицу. Ловила его за руки. Ее пот, смешавшись с растекшимся по телу розовым маслом, ударил ему в ноздри.
– Ты думаешь, я только раздвигаю ноги, да… да, я действительно их раздвигаю… я раздвигаю их всю жизнь… всю жизнь!.. и это меня Бог создал такой, да, такой… а зачем же он меня такой вот создал, а?!.. за мои грехи?!.. но ведь я была маленькой хорошенькой девочкой, я не грешила, я ходила в школу, я вышивала и вязала, я любила маму и бабушку… я не хотела раздвигать ноги перед каждым, слышишь?!.. мы никто этого не хотим!.. но так получается, так все выходит, так…
Она поймала его руку, не выпускала. Он сжал ее руку до хруста. Вспомнил, как сжимал ее руку в поезде. Она опять положила ему другую руку на потный, поджарый живот, ощупала напряженные до боли мышцы, прижала ладонью. Он застонал.
– Это невозможно… так же нельзя, Хрисула… что ты делаешь…
Она встала на колени перед ним. Он положил руки ей на плечи, потом, сжав обеими руками ее виски, отодвинул от себя ее голову, ее жаждущие, протянутые, продажные губы. Она в ярости хотела встать, ударить его по щеке – он это понял, почувствовал, как напряглась, готовая взлететь, ее смуглая рука; он опередил ее, упал на колени рядом с ней. Два голых человека на коленях друг перед другом. Ее черная юбка разлетелась в стороны – искусный разрез, браво портному. Он видел, как блестят на черных курчавых волосках между ног капельки влаги.
– Я хочу тебя, – прохрипела она ненавидяще, – а ты не…
– Я не оскорбляю тебя. – Он положил ладонь ей на рот, заклеив его, готовый вытолкнуть крики, ругательства. Она сперва укусила ладонь, потом поцеловала. – Я хочу тебе помочь. Я хочу… я не знаю, что… я хочу, чтобы все было не так!.. не так… ведь есть же, есть же, в конце концов, Бог, так опоганенный, так… – он подыскивал английское слово, – так оплеванный нами…
Она согнулась. Спина ее выгнулась голым живым колесом. Лопатки торчали беспомощно. Она зарыдала, упрятав лицо в ладони. Может быть, ее слезы – яблочный сок? Он погладил ее по загривку, как зверя – там, где торчал позвонок и дорожка золотистого пушка сбегала вниз по хребту между лопаток.
– Бог, Бог… – пробормотала она по-английски, потом добавила по-гречески: – Теос… Где пребывает Бог, когда на земле люди убивают именем Его?! Когда люди готовы удавиться за золото, как эти… мои хозяева… за мертвые, никому не нужные желтые слитки, на которые можно купить все, все, ты понимаешь, профессор, – все!..
Он взял ее голову в ладони, стоя перед ней на коленях. Заглянул ей в глаза, блестевшие от слез. Синеватые белки светились. Соленая влага катилась по скулам, по подбородку. Он наклонился и слизнул слезу.
– Соленая, – прошептал он. – Как море.
Она рванула на себе юбку. Взяла его руку и положила себе на живот, горячий, как печка.
– Я сама как море… я вся прибой… хочешь – проверь…
Она стала целовать его, еле касаясь губами губ. Он целовал распухшие от слез губы, прижимая пылающий живот к ее продажному бедному животу, мгновенно и остро жалея ее, смертельно и жадно желая ее всю, сейчас, сразу, без остатка, и, кладя ее на холодные грязные половицы, не на утлое тюремное ложе, узкое, как долбленка, он подумал о том, что вот Бог, наверное, и есть любовь, если только этим люди могут сказать друг другу то, что не могут вымолвить языком; утешить и простить друг друга.
… … …