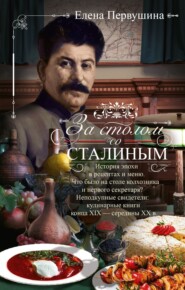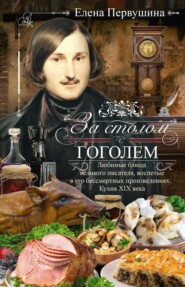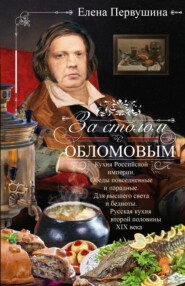По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Быть гувернанткой. Как воспитать принцессу
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она мне рассказывала, что, скромная и в высшей степени сдержанная, она вначале испытывала только ужас перед той блестящей судьбой, которая столь неожиданно открывалась перед ней. Выросшая в уединении и даже в некотором небрежении в маленьком замке Югендгейм, где ей даже редко приходилось видеть отца, она была более испугана, чем ослеплена, когда внезапно была перенесена ко двору, самому пышному, самому блестящему и самому светскому из всех европейских дворов, и в семью, все члены которой старались наперерыв друг перед другом оказать самый горячий прием молодой иностранке, предназначенной занять среди них такое высокое положение. Она мне говорила, что много раз после долгих усилий преодолеть застенчивость и смущение она ночью в уединении своей спальни предавалась слезам и долго сдерживаемым рыданиям. Затем, чтобы устранить следы своих слез, она открывала форточку и выставляла свои покрасневшие глаза на холодный воздух зимней ночи. Вследствие такой неосторожности у нее на лице появилась сыпь, от которой чуть не навсегда пострадала изумительная белизна ее цвета лица. Эта болезнь, затянувшаяся довольно долго, заставила ее безвыходно просидеть в своей комнате в течение нескольких недель и дала ей возможность постепенно освоиться с членами своей новой семьи и особенно привязаться к своему царственному жениху, который не только не отдалился от молодой невесты вследствие болезни, одно время угрожавшей ей потерей красоты, но, наоборот, удвоил свои заботы и проявления нежной внимательности и этим привязал к себе ее сердце, еще слишком юное, чтобы испытывать более страстные чувства.
Я сказала, что, когда я впервые увидела великую княгиню, ей было уже 28 лет. Тем не менее она выглядела еще очень молодой. Она всю жизнь сохранила эту молодую наружность, так что в сорок лет ее можно было принять за женщину лет тридцати. Несмотря на высокий рост и стройность, она была такая худенькая и хрупкая, что не производила на первый взгляд впечатление belle femme[46 - Красавицы (фр.).]; но она была необычайно изящна, тем совершенно особым изяществом, какое можно найти на старых немецких картинах, в мадоннах Альбрехта Дюрера, соединяющих некоторую строгость и сухость форм со своеобразной грацией в движении и позе, благодаря чему во всем их существе чувствуется неуловимая прелесть и как бы проблеск души сквозь оболочку тела. Ни в ком никогда не наблюдала я в большей мере, чем в цесаревне, это одухотворенное и целомудренное изящество идеальной отвлеченности. Черты ее не были правильны. Прекрасны были ее чудные волосы, ее нежный цвет лица, ее большие голубые, немного навыкат, глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Профиль ее не был красив, так как нос не отличался правильностью, а подбородок несколько отступал назад. Рот был тонкий, со сжатыми губами, свидетельствовавший о сдержанности, без малейших признаков способности к воодушевлению или порывам, а едва заметная ироническая улыбка представляла странный контраст к выражению ее глаз. Я настаиваю на всех этих подробностях потому, что я редко видала человека, лицо и наружность которого лучше выражали оттенки и контрасты его внутреннего чрезвычайно сложного «я».
Мне бы хотелось суметь изобразить эту натуру, как я ее понимаю, со всеми теми качествами и недостатками, которые составляли ее прелесть и в то же время делали ее слабость. Это прежде всего была душа чрезвычайно искренняя и глубоко религиозная, но эта душа, как и ее телесная оболочка, казалось, вышла из рамки средневековой картины. Религия различно отражается на душе человека: для одних она – борьба, активность, милосердие, отзывчивость, для других – безмолвие, созерцание, сосредоточенность, самоистязание. Первым – место на поприще жизни, вторым – в монастыре. Душа великой княгини была из тех, которые принадлежат монастырю. Ее хорошо можно было себе представить под монашеским покрывалом, коленопреклоненной под сенью высоких готических сводов, объятую безмолвием, изнуренную постом, долгими созерцательными бдениями и продолжительными церковными службами, пышною торжественностью которых она бы с любовью руководила. Вот подходящая обстановка для этой души, чистой, сосредоточенной, неизменно устремленной ко всему божественному и священному, но не умевшей проявить себя с той горячей и живой отзывчивостью, которая сама и дает и получает радость от соприкосновения с людьми.
В своем окружении матери, жены, государыни она казалась как бы чужой и не освоившейся. Она была нежно привязана к мужу и к детям и добросовестно исполняла обязанности, которые налагали на нее семья и ее высокий сан; она, по крайней мере, всеми силами старалась их исполнять, но в самом этом усилии чувствовалось отсутствие непосредственности в этих отношениях; она искала и находила власяницу там, где характер более открытый нашел бы удовлетворение интимных стремлений и применение природных способностей. Какая тайна вообще в судьбе человеческой – тайна неиспользованных способностей! Сколько людей призвано с трудом выполнять дело, к которому они совершенно неспособны, тогда как рядом с ними другие с таким же трудом выполняют дело, которое вызвало бы проявление всех лучших способностей первых! Итак, цесаревна, вскоре после того сделавшаяся императрицей, не была призвана по своей натуре, совершенно лишенной темперамента, к тому положению, которое ей предназначила судьба. Все в ней было одно методическое усилие, все для нее было предлогом для самоистязания, и такое постоянное нравственное напряжение привело ее в конце концов к тому, что в этой робкой пассивной натуре иссяк последний источник энергии. Ее много судили и много осуждали, часто не без основания, за отсутствие инициативы, интереса и активности во всех областях, куда она могла бы внести жизнь и движение; и те, кто ее близко знал и любил, не могут ее защищать, но они знают, что ее неспособность к выполнению тяжелой задачи, к которой призвала ее судьба, зависела скорей от ее природы, чем от воли. И, несмотря на все это, во всем ее существе была какая-то интимная прелесть, тем более обаятельная, что она не обладала даром широко расточаться, – прелесть, благодаря которой к ней можно было глубоко и серьезно привязаться. Жизнь, обстоятельства и различие характеров нас давно разъединили, и все-таки я понимаю, почему я ее так сильно любила. Ум цесаревны был подобен ее душе: тонкий, изящный, проницательный, очень иронический, но лишенный горячности, широты и инициативы. Многие обвиняли ее в слабости характера, а между тем она не была лишена силы воли, но весь запас этой воли был направлен внутрь, против нее самой, против всякого непосредственного импульса. Она так научилась остерегаться первого своего движения, что создала себе в конце концов как бы вторую, совершенно условную натуру. Она была осторожна до крайности, и эта осторожность делала ее слабой в жизни, которая так сложна, что всегда выходит за пределы наших расчетов и требует порыва, решительности, непосредственности, инстинкта от тех, кто хочет ею овладеть и над нею властвовать. Из этой осторожности вытекала большая нерешительность, которая делала в конце концов отношения с ней утомительными и тягостными.
Понятно, что характер ее выяснился для меня таким, как я его здесь описываю, далеко не сразу, а лишь через много лет. Очень долго я находилась исключительно под впечатлением того, что было чарующего и интимного в этой натуре, самая сдержанность которой меня привлекала своей таинственностью. Ее кротость, доброжелательность и ровность настроения, ее слегка насмешливый ум таили в себе тысячу чар. В эпоху, когда я ее узнала, жестокие жизненные испытания еще не коснулись ее. Она жила исключительно своей семейной жизнью; счастливая жена, счастливая мать, боготворимая своим свекром, императором Николаем, создавшим своего рода культ своей невестки, она была окружена как золотым ореолом великим престижем императорской власти, который был так высоко поднят личностью императора Николая, но должен был скоро поблекнуть среди катастрофы конца его царствования. Она знала тогда только радости и величие своего положения, но не вкусила еще ни горечи его, ни тяготы.
* * *
Родилась маленькая великая княжна. Княгиня Салтыкова[47 - Екатерина Васильевна Салтыкова – статс-дама, гофмейстерина двора цесаревны Марии Александровны.] зашла ко мне около трех часов очень взволнованная и объявила, что у цесаревны родилась дочь. Эта маленькая девочка – большая радость в императорской семье, ее очень ждали и желали, так как после великой княжны Лины, которая не дожила до семи лет, у цесаревны были только сыновья. Этой новой пришелице предназначили имя Веры, но старая кн. Горчакова написала императрице, что она видела сон, будто у цесаревны родится дочь, если она обещает назвать ее Марией. Итак, назовут ее Марией…
* * *
Сегодня состоялось крещение великой княжны Марии Александровны. Все было обставлено с величайшей помпой и торжественностью. На императрице был трен[48 - Трен – задний конец женского платья, тянущийся в форме длинного шлейфа.], осыпанный бриллиантами и драгоценными каменьями. Августейшего младенца, покрытого императорской мантией из сукна, отороченного горностаем, держала на руках княгиня Салтыкова. Восприемниками были император Николай и великая княгиня Мария Николаевна[49 - Старшая дочь Николая I.]. Служба была чудная. Великолепный хор пел sotto voce[50 - Вполголоса (ит.).] для того, чтобы сильные голоса не испугали ребенка. Пение тихое и заглушенное, как отдаленная мелодия, наполняло душу умилением грустным и торжественным. В этих наполовину светских, наполовину религиозных придворных торжествах есть какая-то странная смесь божественного и мирского. Совершаются самые священные церковные таинства, и нужно сказать, что члены царской семьи всегда присутствуют на них с видом глубочайшего благоговения, многие из них молятся с искренним благочестием, и все строго соблюдают приличие, внушаемое святостью места. Нельзя того же сказать о придворных: из них каждый, по-видимому, чувствует себя скорее в театре, нежели в церкви, и многие прекрасные люди, которые наедине усердно молятся богу, в дворцовой церкви считают себя совершенно свободными от всяких обязательств по отношению к нему. Для всех них церковь является как бы местом светских собраний; считается совершенно ненужным ни молиться, ни даже держать себя прилично. Болтают, шепчутся, смеются. Иногда, когда разговор становится слишком громким, император Николай поворачивает голову и обводит взором Юпитера-громовержца эту стрекочущую толпу. Мгновенно наступает тишина, но ненадолго, и очень скоро разговоры возобновляются. Церемония продолжалась очень долго, так как обедне предшествовал еще молебен, сопровождаемый залпами из пушек. Когда я пошла поздравить цесаревну, она показала мне великолепные украшения из драгоценных камней, которые ей подарили государь, государыня и наследник цесаревич: диадему из рубиновых звезд с расходящимися бриллиантовыми лучами и такую же парюру[51 - Парюра (фр. parure – убор, украшение) – набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения.] на корсаж. Цесаревна подарила мне красивую брошку из жемчугов с бриллиантами.
Портрет императрицы Марии Александровны, жены Александра II.
Художник – Иван Макаров. 1866 г.
Мария Александровна (1824–1880) – принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III.
«Мари завоевала сердца всех тех русских, которые могли познакомиться с ней…»
(Ольга Николаевна Романова «Сон юности»)
* * *
Мне сегодня минуло 25 лет. Я была у обедни в дворцовой церкви, где происходила заупокойная служба по дочери императора Николая, Александре[52 - См. первую часть.], умершей после года брака с герцогом Гессен-Дармшатдским, и по дочери цесаревича, также носившей имя Александры и умершей в возрасте семи лет от последствий кори. Это был первый ребенок от брака цесаревича и цесаревны, и цесаревич исключительно любил ее, она также страстно была к нему привязана, так что, будучи еще совсем маленькой, горько плакала, когда отец ее был в отсутствии. Цесаревна говорила мне, что никогда великий князь так не играл с другими детьми, как с этим ребенком. Он был ей товарищем и постоянно носил ее на руках. Привязался он к ней еще сильнее потому, что ее рождение было некоторым разочарованием для остальных членов семьи, особенно для императора Николая, рассчитывавшего сразу иметь наследника престола и потому оставшегося недовольным рождением девочки. Доброе и нежное отцовское сердце чувствовало потребность вознаградить усиленной лаской за холодность, проявлявшуюся вначале к новорожденной, за которой, впрочем, через год явился наследник.
* * *
Сегодня молебен в память злосчастного события 1825 года, о котором хорошо было бы позабыть[53 - Подавление восстания декабристов. М. А. Корф, директор Императорской публичной библиотеки и главноуправляющий Вторым отделением, писал по этому поводу: «Со времени происшествий 14 декабря 1825 года император Николай неизменно праздновал их годовщину, считая всегда это число днем истинного своего восшествия на престол. Все лица, принимавшие прямое или косвенное участие в подвигах достопамятного дня, были собираемы ко двору, где, в малой церкви Зимнего дворца или в церкви Аничкова, совершалось благодарственное молебствие, при котором, после обыкновенного многолетия, были возглашаемы сперва вечная память „рабу Божию графу Михаилу (Милорадовичу) и всем, в день сей за веру, царя и отечество убиенным“, а в заключение – многолетие «храброму всероссийскому воинству». Затем все присутствовавшие допускались к руке императрицы и целовались с государем, как в Светлый праздник. Много лет сряду государь приезжал еще в этот день в Конногвардейский и в Преображенский полки, которые, как известно, прибыли первыми на площадь к охранению правого дела, и эти царственные посещения он прекратил тогда лишь, когда в составе упомянутых полков не осталось уже никого из ветеранов 14 декабря. В прежнее время в это число бывал всегда и маленький бал в Аничковом дворце».].
Императрица так быстро поправляется после возвращения сыновей[54 - Во время Крымской войны великий князья Николай и Михаил Николаевичи находились в Севастополе. Из-за ухудшения здоровья императрицы Александры Федоровны они вернулись в Гатчину, где тогда находился двор.], что начинают говорить о переезде в город. Сегодня вечером я была у маленькой великой княжны. Она резвилась со своими братьями и с левреткой и была очень мила. Император пришел кормить ее супом, как он это делает почти каждый вечер.
Вот сюжет для исторической картины: румяный улыбающийся ребенок в ленах и кружевах на высоком стульчике и рядом самодержец, с суровым строгим профилем вливающий золотой ложкой суп в этот розовый улыбающийся ротик. Император сказал мне: «Я почти каждый вечер прихожу кормить супом этого херувимчика – это единственная хорошая минута во весь день, единственное время, когда я забываю подавлявшие меня заботы».
* * *
17 февраля я, по своему обыкновению, к девяти часам утра спустилась к цесаревне, чтобы присутствовать на сеансе пассивной гимнастики, которой она ежедневно занималась с Derond. Я ее застала очень озабоченной – император неделю как болен гриппом, не представлявшим вначале никаких серьезных симптомов; но, чувствуя себя уже нездоровым, он вопреки совету доктора Мандта настоял на том, чтобы поехать в манеж произвести смотр полку, отъезжавшему на войну, и проститься с ним. Мандт сказал ему: «Ваше величество, мой долг предупредить вас, что вы очень сильно рискуете, подвергая себя холоду в том состоянии, в каком находятся ваши легкие». «Дорогой Мандт, – возразил государь, – вы исполнили ваш долг, предупредив меня, а я исполню свой и прощусь с этими доблестными солдатами, которые уезжают, чтобы защищать нас».
Он отправился в манеж и, вернувшись оттуда, слег. До сих пор болезнь государя держали в тайне. До 17-го даже петербургское общество ничего о ней не знало, а во дворце ею были мало обеспокоены, считая лишь легким нездоровьем. Поэтому беспокойство великой княгини удивило меня. Она мне сказала, что уже накануне Мандт объявил положение императора серьезным. В эту минуту вошел цесаревич и сказал великой княгине, что доктор Каррель сильно встревожен, Мандт же, наоборот, не допускает непосредственной опасности. «Тем не менее, – добавил великий князь, – нужно будет позаботиться об опубликовании бюллетеней, чтобы публика была осведомлена о положении…»
В ту минуту, когда я пишу эти строки, с тех пор прошло только два дня, но мне кажется, что за эти два дня рухнул мир – столько важных и страшных событий произошло за этот короткий срок. 17-го, вернувшись с обеда у моих родителей, я пошла переодеться к вечеру у цесаревны; но пробило десять часов, никто меня не позвал, и я спустилась в дежурную комнату, чтобы узнать в чем дело. Камеристка сказала мне, что состояние здоровья императора, по-видимому, ухудшилось, что цесаревна, вернувшись от него, удалилась в свой кабинет и что великая княгиня Мария Николаевна, которая проводит ночь при отце, каждый час присылает бюллетени о здоровье императора.
Я отправилась к Александре Долгорукой[55 - Долгорукая Александра Сергеевна – княжна, фрейлина Марии Александровны.]. M-elles Фредерикс[56 - Фредерикс Мария Петровна – фрейлина императрицы Александры Федоровны, ее записки см. в книге: В царском кругу. Воспоминания фрейлин дома Романовых. М.: Алгоритм, 2016.] и Гудович[57 - Гудович Евдокия Васильевна – фрейлина императрицы Александры Федоровны.], только что вернувшиеся от императрицы, сказали нам, что они издали слышали, как Мандт говорил о поднимающейся подагре, о воспалении в легком. Эти дамы были чрезвычайно встревожены и умоляли нас пойти к цесаревне, чтобы получить точные сведения. Никто ничего не знал, а может быть, никто не смел высказывать вслух своих мыслей или своих опасений по поводу происходящего. Видны были только смущенные и объятые ужасом лица. Александра и я вторично спустились в дежурную комнату, где нам сказали, что цесаревну только что вызвали к императору. Мы решили дождаться ее возвращения в спальне и в томительном ожидании провели целый час; эта большая комната, еле освещенная свечою, стоявшей на камине, и лампадкой, теплившейся перед образами, имела мрачный вид. Нам пришли сказать, что цесаревна вернулась с великой княгиней Александрой Иосифовной[58 - Жена великого князя Константина Николаевича.], которая должна была провести ночь во дворце, чтобы быть поблизости на случай каких-либо событий. Вошел цесаревич со смертельно бледным и изменившимся лицом. Он пожал нам руку, сказал: «Дела плохи» – и быстро удалился. Убедившись, что ничего больше мы не узнаем, мы поднялись наверх. Мария Фредерикс получила более подробные сведения в дежурной комнате императрицы. Подагра поднималась, паралич легких был неминуем. Императрица робко предложила императору причаститься. Он ответил, что причастится, когда ему будет лучше и он в состоянии будет принять святые тайны стоя. Императрица не решилась настаивать, чтобы не встревожить его. Она стала читать возле него «Отче наш», и, когда она произнесла слова: «Да будет воля твоя», он горячо сказал: «Всегда, всегда».
Ночь уже была поздняя, но тревога не давала нам спать. С несколькими фрейлинами я пошла в дворцовую церковь, слабо освещенную немногими свечами, горевшими перед иконостасом. Но душа моя была объята ужасом, и сердце не могло молиться, хотя уста и произносили привычные слова…
Вернувшись к себе, я нашла записку от графини Антонины Блудовой[59 - Блудова Антонина Дмитриевна – камер-фрейлина, дочь А. Н. Блудова, действительного тайного советника, в то время главноуправляющего Второго отделения.], писавшей цесаревне от имени своего отца о необходимости немедленно распорядиться служить во всех церквах молебны, чтобы народ был оповещен об опасности, угрожающей жизни императора.
Я понесла эту записку цесаревне. Мне сказали, что она только что легла. Тогда я попросила передать записку цесаревичу, который находился при императоре. Поднявшись к себе, я, не раздеваясь, прилегла на кровать и слегка задремала, но сильный шум шагов по коридору вскоре разбудил меня. Вся дрожа, я вышла из комнаты и встретила Екатерину Тизенгаузен[60 - Екатерина Федоровна Тизенгаузен, камер-фрейлина.], которая куда-то бежала с другой фрейлиной императрицы. Они мне сказали, что к императору только что позвали Баженова (духовника императорской фамилии). С ними вместе я спустилась вниз.
Было часа два или три ночи, но во дворце никто уже не спал. В коридорах, на лестницах – всюду встречались лица испуганные, встревоженные, расстроенные, люди куда-то бежали, куда-то бросались, не зная в сущности куда и зачем. Шепотом передавали друг другу страшную весть, старались заглушить шум своих шагов, и эта безмолвная тревога в мрачной полутьме дворца, слабо освещенного немногими стенными лампами, еще усиливала впечатление испытываемого ужаса.
Умирающий император лежал в своем маленьком кабинете в нижнем этаже дворца. Большой вестибюль со сводами рядом с его комнатами был полон придворными: статс-дамы и фрейлины, высокие чины двора, министры, генералы, адъютанты ходили взад и вперед или стояли группами, безмолвные и убитые, словно тени, движущиеся в полумраке этого обширного помещения. Среди томительной тишины слышно было только завывание ветра, который порывами врывался в огромный дворцовый двор. Казалось, что сама природа присоединяется к чувствам ужаса и страха, вызываемым в наших душах страшной и великой тайной смерти, совершающейся над тем человеком, сильным и мощным, который в течение более четверти века был в глазах нашей великой страны олицетворением могущества и жизни. Неужели исчезнет эта величавая фигура, которая как в отвлеченном, так и в реальном смысле была самым полным, самым ярким воплощением самодержавной власти со всем ее обаянием и всеми ее недостатками. И дыхание смерти пронесется над ней столь же равнодушно, как над былинкой в поле, превратит ее в прах и смешает с землей! За всю мою жизнь мне не приходилось видеть смерти, и она впервые предстала предо мной внезапная, неожиданная, во всем своем неумолимом противоречии с полнотой жизни; это приводило меня в такой ужас, воспоминание о котором никогда не изгладится из моей души. Ежеминутно из комнаты умирающего нам сообщали новые подробности. Несколько лиц из самых близких к императрице, чаще всего Мария Фредерикс, ходили взад и вперед из вестибюля в дежурную комнату, где находились врачи и дежурные и через которую беспрестанно проходили члены императорской семьи. От них мы были осведомлены с часа на час о том, что происходило.
Император после исповеди громким и твердым голосом произнес молитву перед причастием: «Верую, господи, и исповедую» и т. д. и причастился с величайшим благоговением. По его желанию вся императорская семья собралась вокруг его кровати. Великие княгини всю ночь провели, не раздеваясь, в Зимнем дворце; они отдыхали в ту минуту, когда их позвали. Камеристка цесаревны говорила мне, что никогда еще она не видела ее такой взволнованной и потрясенной. Император благословил всех своих детей и внуков и говорил отдельно с каждым из них, несмотря на свою слабость. Благословляя цесаревну, он продолжительным взглядом, казалось, особенно поручил ей императрицу, как будто более всего он полагался на ее любовь и на ее заботу. Благословив всех, он сказал, обращаясь ко всем вместе: «Напоминаю вам о том, о чем я так часто просил вас в жизни: оставайтесь дружны».
Вся семья теснилась у его изголовья, но он сказал: «Теперь мне нужно остаться одному, чтобы подготовиться к последней минуте. Я вас позову, когда наступит время».
Семья удалилась в соседнюю комнату. При умирающем императоре остались только императрица, цесаревич и Мандт. Император настоятельно просил императрицу отдохнуть, хотя бы ненадолго. Она сказала ему:
– Оставь меня подле себя; я бы хотела уйти с тобою вместе. Как радостно было бы вместе умереть!
– Не греши, – ответил император, – ты должна сохранить себя ради детей, отныне ты будешь для них центром. Пойди, соберись с силами, я тебя позову, когда придет время.
Императрица прилегла на кушетке в соседней комнате. Часов в пять приехала великая княгиня Елена Павловна[61 - Вдова великого князя Михаила Павловича.], которую вызвали из Михайловского дворца. Умирающий привычным движением провел рукой по ее лицу и сказал шутливым тоном, который с ней часто принимал: «Bonjour, madame Michel».
Страдания усиливались, но ясность и сознание духа ни на минуту не покидали умирающего. Он позвал к своему изголовью князя Орлова[62 - Орлов Алексей Федорович – шеф жандармов и главный начальник III отделения.], графа Адлерберга[63 - Адлерберг Владимир Федорович – министр двора. Брат статс-дамы Ю. Ф. Барановой.] и князя Василия Долгорукова[64 - Долгорукий Василий Андреевич – военный министр.], чтобы проститься с ними, велел позвать несколько гренадеров и поручил им передать его прощальный привет их товарищам. Цесаревичу он поручил проститься за него с гвардией, со всей армией, и особенно с геройскими защитниками Севастополя. «Скажи им, что я и там буду продолжать молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где это мне не удалось, это случилось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня». В пять часов он сам продиктовал депешу в Москву, в которой сообщал, что умирает, и прощался со своей старой столицей. В стране не знали даже, что он болен. Он велел еще телеграфировать в Варшаву и послать депешу к прусскому королю, в которой он просил его всегда помнить завещание своего отца и никогда не изменять союзу с Россией. Несколько часов спустя после смерти императора Николая император Александр II получил от прусского короля депешу в следующих словах: «Я никогда не забуду завета твоего покойного отца». Эти подробности я имею от цесаревны. Император приказал собрать в залах дворца все гвардейские полки с тем, чтобы присяга могла быть принесена немедленно после его последнего вздоха. Он велел также позвать madame Рорбек[65 - Вильгельмина фон Рорбек, камер-фрау Александры Федоровны.], любимую камер-фрау императрицы, которая удивительно хорошо ухаживала за ней во время ее последней болезни в Гатчине. Император с горячностью благодарил ее за ее преданность императрице, просил ее продолжать заботиться о ней и прибавил: «Передайте еще мой привет моему милому Петергофу».
Александр II Николаевич (1818–1881) – Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский (1855–1881) из династии Романовых. Старший сын сначала великокняжеской, а с 1825 года императорской четы Николая Павловича и Александры Федоровны.
«Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света».
(Александр II)
Длинная ночь уже приходила к концу, когда приехал курьер из Севастополя – Меншиков-сын[66 - Меншиков Владимир Александрович, свиты его величества генерал-майор, сын Александра Сергеевича, главнокомандующего во время Крымской войны.]. Об этом еще доложили императору, который сказал: «Эти вещи меня уже не касаются. Пусть он передаст депеши моему сыну». В то время как мы шаг за шагом следили за драмой этой ночи агонии, я вдруг увидела, что в вестибюле появилась несчастная Нелидова[67 - Варвара Аркадьевна Нелидова, фрейлина, любовница Николая I.]. Трудно передать выражение ужаса и глубокого отчаяния, отразившихся в ее растерянных глазах и в красивых чертах, застывших и белых, как мрамор. Проходя, она задела меня, схватила за руку и судорожно потрясла. «Une belle nuit m-lle Tutcheff, une belle nuit»[68 - «Прекрасная ночь, мадемуазель Тютчева, прекрасная ночь» (фр.).], – сказала она хриплым голосом. Видно было, что она не сознает своих слов, что безумие отчаяния овладело ее бедной головой. Только теперь, при виде ее, я поняла смысл неопределенных слухов, ходивших во дворце по поводу отношений, существовавших между императором и этой красивой женщиной, – отношений, которые особенно для нас, молодых девушек, были прикрыты с внешней стороны самыми строгими приличиями и полной тайной. В глазах человеческой, если не божеской, морали эти отношения находили себе некоторое оправдание, с одной стороны, в состоянии здоровья императрицы, с другой – в глубоком, бескорыстном и искреннем чувстве Нелидовой к императору. Никогда она не пользовалась своим положением ради честолюбия или тщеславия, и скромностью своего поведения она умела затушевать милость, из которой другая создала бы себе печальную славу. Императрица с той ангельской добротой, которая является отличительной чертой ее характера, вспомнила в эту минуту про бедное женское сердце, страдавшее если не так законно, то не менее жестоко, чем она, и с той изумительной чуткостью, которой она отличается, сказала императору: «Некоторые из наших старых друзей хотели бы проститься с тобой: Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен и Варенька Нелидова». Император понял и сказал: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть, ты ей скажешь, что я прошу ее меня простить, что я за нее молился и прошу ее молиться за меня». Само собой разумеется, я все эти подробности узнала позднее, но из уст, гарантирующих их достоверность.
Ночь кончалась. Бледный свет петербургского зимнего утра понемногу проникал в вестибюль, в котором мы находились. Приток народа и волнение все возрастали около комнаты, где император в тяжелых страданиях, но в полной ясности ума боролся с надвигавшейся на него смертью. Наступил паралич легких, и, по мере того как он усиливался, дыхание становилось более стесненным и более хриплым. Император спросил Мандта: «Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка?». Затем он прибавил: «Если это начало конца, это очень тяжело. Я не думал, что так трудно умирать». В восемь часов пришел Баженов и стал читать отходную. Император со вниманием слушал и все время крестился. Когда Баженов благословил его, осенив крестом, он сказал: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно». Он сделал знак Баженову тем же крестом благословить императрицу и цесаревича. До самого последнего вздоха он был озабочен тем, чтобы выказать им свою нежность. После причастия он сказал: «Господи, прими меня с миром» и, указывая на императрицу, сказал Баженову: «Поручаю ее вам», и ей самой: «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того мгновения, когда я увидел тебя в первый раз и до этой последней минуты». Во время агонии он держал еще в своих руках руки супруги и сына и, уже не будучи в состоянии говорить, прощался с ними взглядом. Императрица держалась с изумительным спокойствием и стойкостью до той минуты, когда собственными руками закрыла ему глаза. В десять часов нам сказали, что император потерял способность речи. До тех пор он говорил голосом твердым и громким и с полной ясностью ума.
Я была в комнате графини Барановой, окна которой выходят на улицу. Утренний туман рассеялся. Под ослепительным солнцем сверкал снег и иней на деревьях Адмиралтейского бульвара. Проехали несколько мужиков, равнодушно лежа в своих розвальнях. Жизнь текла обычным порядком, беззаботно и бессознательно в двух шагах от комнаты, где умирал император! Контраст так поразил меня, что я поспешила уйти в церковь, где шла прежде освященная обедня, так как была пятница. В последний раз я слышала, как провозгласили имя императора среди живых. Еще молились о его здравии.
Что касается меня, я не знаю, было ли молитвой то, что во мне происходило. Всякое человеческое чувство было как бы уничтожено во мне перед лицом великой тайны смерти, совершавшейся на моих глазах в обстановке такой величавой и потрясающей. Мне бы казалось кощунством даже в глубине своей души молиться о выздоровлении императора или о продлении его дней. Рядом с этим смертным одром Бог, вечность представлялись мне единственной подлинной действительностью, смерть – переходом к этой великой реальности, а земная жизнь – сновидением или призраком, не достойным ни наших молитв, ни сожалений.
Император скончался, по-видимому, в ту минуту, когда завершалась обедня. Выйдя из церкви, я вернулась в вестибюль, где уже толпился народ. Генерал-адъютант Огарев вышел из комнат императора и сказал: «Все кончено». Наступила жуткая тишина, прерываемая глухими рыданиями. Двери из императорских покоев распахнулись, и нам сказали, что мы можем подойти к покойному и проститься с ним. Толпа бросилась в комнату умершего императора. Это был антресоль нижнего этажа, довольно низкий, очень просто обставленный, который император предпочитал занимать в последние годы своей жизни во избежание высоких лестниц, так как его парадные покои были на самом верху, над покоями императрицы. Император лежал поперек комнаты на очень простой железной кровати. Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати. Руки были скрещены на груди, лицо обвязано белой повязкой. В эту минуту, когда смерть возвратила мягкость прекрасным чертам его лица, которые за последнее время так сильно изменились благодаря страданиям, подтачивавшим императора и преждевременно сокрушившим его, – в эту минуту его лицо было красоты поистине сверхъестественной. Черты казались высеченными из белого мрамора, тем не менее сохранился еще остаток жизни в очертаниях рта, глаз и лба, в том неземном выражении покоя и завершенности, которое, казалось, говорило: «я знаю, я вижу, я обладаю», в том выражении, которое бывает только у покойников и которое дает нам понять, что они уже далеки от нас и что им открылась полнота истины. Я видела смерть вблизи первый раз, но она не устрашила меня; наоборот, я почувствовала к ней тяготение. Я поцеловала руки императора, еще теплые и влажные, и не ушла, а встала около стены у изголовья и оставалась тут, пока проходила толпа, прощаясь с покойником. Я долго, долго смотрела на него, не сводя глаз, словно прикованная тайной, которую излучало это красивое и спокойное лицо, и с грустью оторвалась от этого созерцания.
Я добавлю здесь еще некоторые подробности о последних минутах императора, которые передала мне великая княгиня. Незадолго перед концом императору вернулась речь, которая, казалось, совершенно покинула его, и одна из его последних фраз, обращенных к наследнику, была: «Держи все – держи все». Эти слова сопровождались энергичным жестом руки, обозначавшим, что держать нужно крепко.
Вся императорская семья стояла на коленях вокруг кровати. Император сделал цесаревичу знак поднять цесаревну, зная, что ей вредно стоять на коленях. Таким образом, даже в эти последние минуты его сердце было полно той нежной заботливости, которую он всегда проявлял по отношению к своим. Предсмертное хрипение становилось все сильнее, дыхание с минуту на минуту делалось все труднее и прерывистее. Наконец по лицу пробежала судорога, голова откинулась назад. Думали, что это конец, и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кончено! При виде этой смерти, стойкой, благоговейной, можно было думать, что император давно предвидел ее и к ней готовился. Отнюдь нет. До часа ночи того дня, когда он скончался, он не сознавал опасности и так же, как и все окружающие, смотрел на свою болезнь как на преходящее нездоровье. Вот еще некоторые подробности (имею их от графини Блудовой, которая сама слышала их от Мандта).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: