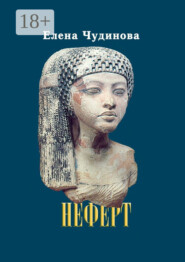По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она что, сама себя так поранила? – тихо спросил Жанну Эжен-Оливье. Они отошли уже от священника и Софии, продолжавших какой-то свой разговор уже вдвоем. Хотя о чем Софии Севазмиу так долго говорить со священником? – Почему никто не перевяжет?
– Она себя не ранила, – Жанна странно взглянула на Эжена-Оливье.
– Слушай, случайно так не наколешься! Откуда тогда эти ранки, кто посмел ей такое сделать?
– Ты чего, вправду не знаешь, что такое стигматы?
– Нет… – Слово было, впрочем, смутно знакомо, так же смутно, как буквы IHS, как уверенность в том, что Пий Десятый был очень крут.
– Раны Христовы… Они сами открываются и кровоточат. У святых у некоторых, у праведников. Валери – юродивая. Она все знает обо всех, ее нельзя обмануть.
– Почему она говорит «задницы»?
– Ты намаз когда-нибудь видел?
– Ну…
– А еще спрашиваешь. Что у них видней всего?
Эжен-Оливье фыркнул.
– Ну вот… Она же маленькая. Что видит, то и говорит. Знаешь, как они ее боятся? Она ведь по всему Парижу бродит, и кулачками им грозит, и ногой топает… А больше всего она любит собор Нотр-Дам.
– Нотр-Дам? – Эжен-Оливье невольно изумился совпадению, ведь весь день сегодня Нотр-Дам все лез и лез ему в голову, мучительно напоминал о себе.
– Ну да, это его она называет домом Божьей Матери. Из него просит их прогнать. Она часто ходит вокруг и все плачет, плачет, что там мечеть.
– Твой дед был хороший. Он в раю. А ты, ты их прогонишь? – Валери, подошедшая было к Эжену-Оливье, повернулась и направилась вдруг к двери.
– Мельник, зря спишь!
Мельница очень уж мелет!
Мельник, зря спишь!
Мельница слишком быстра! —
тихонько напевала она каким-то немыслимо серебряным, немыслимо чистым, немыслимо неземным голоском.
– Мельница, мельница
Сильно мелет!
Мельница, мельница
Так спешит!
Фигурка-статуэтка в рубище скользнула в дверь. Но перед тем, обернувшись, девочка еще раз посмотрела на Эжена-Оливье и строго погрозила ему пальцем.
– Уж не знаю, что там с твоим дедом, но ты-то теперь видишь, почему ее все боятся? – Жанна смотрела вслед Валери своими не очень большими, но дымчато-серыми, окаймленными длинными черными ресницами глазами, и из этих глаз тихо стекали по щекам несколько прозрачных слезинок. Похоже, она и не заметила, что плачет. – Никто не знает, откуда она взялась, куда делась ее семья. Она даже зимой босая, а ночует на улицах. Обувь или теплую одежду ей лучше даже не предлагать. Иногда мне удается ее вымыть или хотя бы причесать, но для этого она должна быть в особо добром расположении. Что она ест, я вообще не представляю. По-моему, она иногда по неделе ничего не берет в рот, кроме святого Причастия. Впрочем, она очень любит грызть лишние гостии, отец Лотар всегда ей оставляет побольше.
– Я говорил твоему отцу Лотару, что не верю в Бога, а он нарочно перевел разговор, – вернулся Эжен-Оливье.
– Он вообще хитрющий, предупреждаю сразу.
– А ты… ты веришь?
– Конечно, – удивилась Жанна. – Что ж я, дура, что ли?
– Спасибо, конечно. Ну так чего ж ты тогда их бьешь, сидела бы себе и молилась, – поддел Эжен-Оливье.
– Ну просила же я тебя не спрашивать, – Жанна с досадой сжала кулак. – Ну ладно, просто нажал на больное место. На очень больное. В Крестовые Походы мне б хорошо жилось, а до Скончания Дней у меня, видно, душа не доросла. Или мужества недостает, не знаю. Да, не смейся, на то, чтоб молиться и ждать, когда тебя за это убьют, надо куда больше мужества, чем на войну.
– Я понимаю, – Эжен-Оливье вправду понимал, хотя еще час назад не мог даже представить себе ничего подобного.
София между тем наконец достала пачку с грубо напечатанным кусочком карты, выбила папиросу, привычно сплющила пальцами мундштук.
– Несчастная девочка, – произнесла она, выпуская дым.
– Девочка очень несчастна, – отозвался отец Лотар. – Только я говорю не о младшей девочке, а о той, что старше. Валери выше нашего человеческого понимания, ей доступны утешения, которых мы не можем вообразить. Она – цельная натура, цельно даже самое ее страдание. А Жанну Сентвиль раздирают надвое сердце и душа – словно лошади равной силы.
– Для вас это разные вещи, я помню. Для меня – нет.
– Так ли, Софи? А вы не забыли, чем грозились на днях?
– Конечно же нет. Я действительно хочу вам кое о чем рассказать, отец. Быть может даже сегодня, вечером. Это удобно для вас?
– Ближе к полуночи, да. Сейчас я должен выбраться в гетто, к умирающему. Бог весть, сколько времени я там пробуду. Но вас я буду ждать.
Жанна уже бежала между тем по коридору, также примыкавшему к церкви, увлекая гостя за собой. Перед очередной овальной металлической дверью она остановилась, надавила на какую-то металлическую же панель.
– Ну вот, странноприимная келья. Правда, здесь часто монахи останавливаются, которые не здешние.
Крошечная комнатка походила больше всего на корабельную каюту, как их, во всяком случае, показывали в старых фильмах. Не было только что иллюминатора. Но потолок висел прямо над головой, кровать крепилась к стене. Жанна пару раз толкнула туда-сюда дверцы встроенного шкафа, продемонстрировав пустое отделение для одежды и полки, на которых лежали сложенные одеяла и стояли несколько книг. За матовым стеклом в углу угадывался маленький душ. Больше ничего и не было, кроме стеклянного столика на единственной изогнутой стальной ноге. Эжен-Оливье уже не удивился небольшому деревянному крестику на стене с заткнутыми за него сухими веточками можжевельника.
– Шик. Отель «Лютеция».
– А вот план отеля, – Жанна вытащила из шкафа листок с какой-то схемой. – Бомбоубежище на самом деле не такое большое, как кажется. Но когда схемы не знаешь, можно запутаться. А тебе какие документы рисуют?
– Обыкновенные, жителя гетто, с рабочим правом на выход. Кем это я работаю вне гетто, пока не знаю. Уборщиком на улицах, скорей всего.
– Коллаборационистские лучше, больше свободы маневра.
– Гимнастикой заниматься? Да ни за какие коврижки!
Жанна понимающе кивнула, взгляды юноши и девушки встретились. «Гимнастикой» на молодежном жаргоне назывался намаз. Что же касается документов, то радикальный шариат сыграл на руку подпольщикам: их можно было менять сколько угодно, не глядя на лицо, хоть женские делай мужчине, лишь бы совпадали отпечатки пальцев. Пальцы были единственной определяющей деталью, но чтобы поймать по ним, надо поднимать электронную картотеку. Каждый раз никто этим заморачиваться не станет. Это не фотография, которую можно развесить по всем углам, не компьютерный портрет, который можно показывать свидетелям. Еще в первом десятилетии XXI века женщины-мусульманки выторговали себе право закрывать на фотографиях волосы и уши. Через десять лет пришлось разрешить не фотографировать женщин-мусульманок вообще, дабы не обнажать перед бесстыжими госчиновниками их целомудренные лица. Ну а после переворота осталось лишь добавить, что любой портрет есть изображение человеческого лица, то есть греховен по самой сути.
Эжен-Оливье знал, что в высших и срединных эшелонах полиции, где работают образованные выходцы из европеизированных семей, тех, что три-четыре поколения жили во Франции, изо всех сил пытаются продавить возврат документов старого образца, хотя бы для мужчин. Они-то понимают, насколько это облегчит жизнь им и осложнит ее подполью. Но все попытки, к счастью, разбиваются о косность правительственных кругов.
– Ну ладно, если что понадобится, шагай строго по карте! Здесь всегда кто-нибудь да есть, – Жанна выскользнула в дверь.
Эжен-Оливье остался один. Один и в полной безопасности, все впервые за день. Роскошь.
Он заглянул в шкаф: четыре одинаковых томика в кожаных переплетах, с тиснением монограмм Христа, Бревиарии[27 - Бревиарий (лат. breviarium, от brevis – краткий) – богослужебная книга Западной Церкви, содержащая чинопоследования ежедневных служб, обязательных для прочтения каждым клириком. В результате богослужебных реформ в Римско-католической Церкви в 1970 г. Бревиарий вышел из употребления, но сохранился у католиков-традиционалистов.], надо же, даже не «Liturgia horarum»[28 - «Liturgia horarum» (лат. литургия часов) – сборних богослужебных чинов, введенный в Римско-католической Церкви в 1970 г. вместо Бревиария. Структура богослужений, помещенных в «Liturgia horarum», была серьезным образом изменена, а сами богослужения подверглись существенным изменениям и сокращениям.]. По временам года, значит. А вот нормальных книг до обидного мало: жизнеописание Монсеньора Марселя Лефевра, изданное в начале века издательством «Клови», это тоже с натяжкой можно отнести к нормальным книгам. Затесались несколько детских: «Маленький герцог» Шарлотты Йонж на английском и «Государь» Жана Распая. А вот это уже теплее! «Государя» он как-то начинал читать, но не успел, книгу, дело было в гетто, отобрали у хозяев.