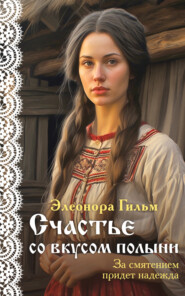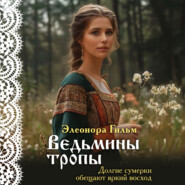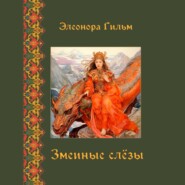По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Искупление
Автор
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не до него сейчас. Пусть наверху посидит да подумает о поведении своем. Розги наготове у меня. – Он снял со стены внушительного вида гибкий прут.
– Спасибо за гостеприимство. Пойдем мы. – Аксинья поклонилась хозяевам, взяла на руки дочь.
– Провожу вас. Псина у нас злая, покусать может. – Семен опередил Катерину.
Женка склонила голову. Аксинья заметила недоверчивый взгляд, что бросила Катерина на мужа. Боится греха. Аксинья на ее месте тоже боялась бы, пуще золота мужа берегла.
Семен с соседкой вышли в теплые сени.
– Ты помощи моей проси. Без мужика тяжко. – Дочка возмущенно запищала, Семен слишком близко придвинулся к Аксинье. – И ребенка одна растишь. Я ж рядом.
– Жена у тебя, Семка. Сыновья.
– Да что жена… Ты знаешь ведь.
– Не балуй, не надо. Я довольно нагрешила… До конца жизни не расплатиться.
– Как знаешь. Но я тебе сказал. – Неожиданно он впился в ее губы, просунул пахнущий ячменным пивом язык, сжал руками. – Не забывай про меня.
– Дочку раздавишь, – отстранилась Аксинья. Во рту остался хмельной вкус пива и Семкиной похоти.
– Я своего добьюсь. – Он открыл дверь и свистнул псине. Та облаивала Аксинью, кидалась, рвалась к гостям. Семен прицепил толстую веревку к кожаному ошейнику, потрепал сторожа по загривку.
– Держи, Семен, своего пса на цепи. И себя держи, – сказала она скорее себе, чем охальнику.
Аксинья вышла на крыльцо и вдохнула свежий воздух. Не надо ей в гости к соседям ходить и наедине с Семеном оставаться. Бедовый. Зря приняла приглашение его. К Семену ходить – чертей дразнить.
– Ты что взбаламученная такая? – Анна сразу почуяла неладное. – Обидел кто? У Семки что случилось?
– Все хорошо, матушка. Твое как здоровье, болит спина?
– Лучше, Оксюша, лучше, – уверяла Анна. Себя бы убедить.
Той ночью Аксинья долго не могла уснуть, крутилась с бока на бок. Все тело будто горело под ночной рубахой, набухшие соски терлись о грубую ткань. Когда темнота полностью поглотила избу, Нютка подняла дикий крик. Аксинья зажгла лучину, вытащила мокрый мох из люльки, обмыла гладкое тельце и приложила дочку к груди. Требовательными движениями дочка втягивала сосок, кусала его, мусолила нежную кожу. Вместе с болью пришла сладкая истома, и, досыта накормив Нютку, Аксинья забылась муторным сном.
Чьи-то руки требовательно шарили по ее телу, щипали грудь, растирали срамные места, а она кричала так, что перебудила, вестимо, всю деревню. Пыталась открыть глаза, посмотреть, кто творит с ней похабство, но темный платок застилал свет, царапал веки, и Аксинье оставалось лишь смириться со своим поражением.
Много срамных снов на одну заблудшую бабу.
Чуть свет появился ожидаемый гость. Игнат принес шмат розового сала, завернутый в рогожу. Васька, Матвейка и Уголек возились возле стола, жадно вдыхали чесночный аромат угощения.
– Под ногами не крутитесь! – шикнула Аксинья и налила гостю травяной настойки. – Рассказывай, Игнат.
– Подмогни, Аксиньюшка. Мочи нет – руки ломит. Молот возьму иль топор – хоть волком вой. Младшего брательника, Глебку, взял в подручные, а сам немочный, как старик. Младший насмехается…
– По младшему твоему, хоть и вырос, детина, розги плачут. Работаешь много, тяжести поднимаешь, себя не жалеючи…
– А что младший-то мой? Сотворил что?
– Да так, я к слову, – не стала Аксинья рассказывать о святочных пакостях Глебки. – И мазь, и растирка, и травы здесь, – протянула она заулыбавшемуся Игнату сверток.
– Вот спасибо. А поможет ли?
– Должно помочь. С полмесяца еще промаешься, а потом с Божьей помощью…
Игнат перекрестился.
– Нужно здоровье мне, детей поднимать. Худое время нынче.
– Что в Москве? О чем люди говорят?
– Васька Шуйский жиреет, Шубником, слыхал, его кличут. Людишки богатые – купцы да посадские – поддерживают ево. Мол, крепостным теперь хозяина менять нельзя. Пятнадцать лет искать будут.
– Ой, страсти, – вздохнула с печки Анна.
– А ты, соседка, приболела?
– Как упала на дороге, на Всенощную шли, так мается матушка.
– Мне уж помирать пора. Старая…
– Не говори такое. Легче станет еще.
Анна ничего не ответила дочери. Не помогут снадобья знахарские. Становилось хуже с каждым днем.
– От Григория вести?.. – Игнат вопрос начал да осекся. Не к месту вспомнил старшего товарища. Часто говорил не думая. «Торопыга», – дразнила его жена Зойка.
– Не знаю ничего. Да какие вести… Откуда они придут-то… Обдорск – край земли.
Аксинья не понимала уже, как к мужу своему относится. Любовь ушла, растворилась в мареве тех страшных событий, что перевернули жизнь с ног на голову. Ненависть питала ее, кусала сердце, подтолкнула к великому греху. Да тоже рассыпалась на части, когда Аксинья увидела, в кого превратился Гришка в соликамском остроге. Был сильный и нахальный мужик с пудовыми кулаками, обратился в чахоточного заморыша.
Жалость? Наверное, именно она отзывалась в ней всякий раз, как вспоминала она мужа, как представляла маету его в Обдорском остроге… А то и колола нечаянным острием мысль – вдруг не дошел до места, помер в дороге, сгорел в лихорадке, жалкий, безрукий, беспомощный.
– А зачем ей про мужа весточка? У нее новые хаха…
– Софья, закрой рот. – Анна и чуть живая спуску не давала.
– …ли.
– Пойду я. Спасибо, Аксинья. Вам здоровья. Дети, не балуйте. – Игнат спешно покинул избу. Как и все мужики, боялся он свар бабских и ругани.
– Ты хоть людей бы, Софья, постыдилась.
– Люди уже бают, что с Семкой ты по углам тискаешься.
– А ты и рада хвостом сплетни собирать.
Невестка фыркнула.
– Спасибо за гостеприимство. Пойдем мы. – Аксинья поклонилась хозяевам, взяла на руки дочь.
– Провожу вас. Псина у нас злая, покусать может. – Семен опередил Катерину.
Женка склонила голову. Аксинья заметила недоверчивый взгляд, что бросила Катерина на мужа. Боится греха. Аксинья на ее месте тоже боялась бы, пуще золота мужа берегла.
Семен с соседкой вышли в теплые сени.
– Ты помощи моей проси. Без мужика тяжко. – Дочка возмущенно запищала, Семен слишком близко придвинулся к Аксинье. – И ребенка одна растишь. Я ж рядом.
– Жена у тебя, Семка. Сыновья.
– Да что жена… Ты знаешь ведь.
– Не балуй, не надо. Я довольно нагрешила… До конца жизни не расплатиться.
– Как знаешь. Но я тебе сказал. – Неожиданно он впился в ее губы, просунул пахнущий ячменным пивом язык, сжал руками. – Не забывай про меня.
– Дочку раздавишь, – отстранилась Аксинья. Во рту остался хмельной вкус пива и Семкиной похоти.
– Я своего добьюсь. – Он открыл дверь и свистнул псине. Та облаивала Аксинью, кидалась, рвалась к гостям. Семен прицепил толстую веревку к кожаному ошейнику, потрепал сторожа по загривку.
– Держи, Семен, своего пса на цепи. И себя держи, – сказала она скорее себе, чем охальнику.
Аксинья вышла на крыльцо и вдохнула свежий воздух. Не надо ей в гости к соседям ходить и наедине с Семеном оставаться. Бедовый. Зря приняла приглашение его. К Семену ходить – чертей дразнить.
– Ты что взбаламученная такая? – Анна сразу почуяла неладное. – Обидел кто? У Семки что случилось?
– Все хорошо, матушка. Твое как здоровье, болит спина?
– Лучше, Оксюша, лучше, – уверяла Анна. Себя бы убедить.
Той ночью Аксинья долго не могла уснуть, крутилась с бока на бок. Все тело будто горело под ночной рубахой, набухшие соски терлись о грубую ткань. Когда темнота полностью поглотила избу, Нютка подняла дикий крик. Аксинья зажгла лучину, вытащила мокрый мох из люльки, обмыла гладкое тельце и приложила дочку к груди. Требовательными движениями дочка втягивала сосок, кусала его, мусолила нежную кожу. Вместе с болью пришла сладкая истома, и, досыта накормив Нютку, Аксинья забылась муторным сном.
Чьи-то руки требовательно шарили по ее телу, щипали грудь, растирали срамные места, а она кричала так, что перебудила, вестимо, всю деревню. Пыталась открыть глаза, посмотреть, кто творит с ней похабство, но темный платок застилал свет, царапал веки, и Аксинье оставалось лишь смириться со своим поражением.
Много срамных снов на одну заблудшую бабу.
Чуть свет появился ожидаемый гость. Игнат принес шмат розового сала, завернутый в рогожу. Васька, Матвейка и Уголек возились возле стола, жадно вдыхали чесночный аромат угощения.
– Под ногами не крутитесь! – шикнула Аксинья и налила гостю травяной настойки. – Рассказывай, Игнат.
– Подмогни, Аксиньюшка. Мочи нет – руки ломит. Молот возьму иль топор – хоть волком вой. Младшего брательника, Глебку, взял в подручные, а сам немочный, как старик. Младший насмехается…
– По младшему твоему, хоть и вырос, детина, розги плачут. Работаешь много, тяжести поднимаешь, себя не жалеючи…
– А что младший-то мой? Сотворил что?
– Да так, я к слову, – не стала Аксинья рассказывать о святочных пакостях Глебки. – И мазь, и растирка, и травы здесь, – протянула она заулыбавшемуся Игнату сверток.
– Вот спасибо. А поможет ли?
– Должно помочь. С полмесяца еще промаешься, а потом с Божьей помощью…
Игнат перекрестился.
– Нужно здоровье мне, детей поднимать. Худое время нынче.
– Что в Москве? О чем люди говорят?
– Васька Шуйский жиреет, Шубником, слыхал, его кличут. Людишки богатые – купцы да посадские – поддерживают ево. Мол, крепостным теперь хозяина менять нельзя. Пятнадцать лет искать будут.
– Ой, страсти, – вздохнула с печки Анна.
– А ты, соседка, приболела?
– Как упала на дороге, на Всенощную шли, так мается матушка.
– Мне уж помирать пора. Старая…
– Не говори такое. Легче станет еще.
Анна ничего не ответила дочери. Не помогут снадобья знахарские. Становилось хуже с каждым днем.
– От Григория вести?.. – Игнат вопрос начал да осекся. Не к месту вспомнил старшего товарища. Часто говорил не думая. «Торопыга», – дразнила его жена Зойка.
– Не знаю ничего. Да какие вести… Откуда они придут-то… Обдорск – край земли.
Аксинья не понимала уже, как к мужу своему относится. Любовь ушла, растворилась в мареве тех страшных событий, что перевернули жизнь с ног на голову. Ненависть питала ее, кусала сердце, подтолкнула к великому греху. Да тоже рассыпалась на части, когда Аксинья увидела, в кого превратился Гришка в соликамском остроге. Был сильный и нахальный мужик с пудовыми кулаками, обратился в чахоточного заморыша.
Жалость? Наверное, именно она отзывалась в ней всякий раз, как вспоминала она мужа, как представляла маету его в Обдорском остроге… А то и колола нечаянным острием мысль – вдруг не дошел до места, помер в дороге, сгорел в лихорадке, жалкий, безрукий, беспомощный.
– А зачем ей про мужа весточка? У нее новые хаха…
– Софья, закрой рот. – Анна и чуть живая спуску не давала.
– …ли.
– Пойду я. Спасибо, Аксинья. Вам здоровья. Дети, не балуйте. – Игнат спешно покинул избу. Как и все мужики, боялся он свар бабских и ругани.
– Ты хоть людей бы, Софья, постыдилась.
– Люди уже бают, что с Семкой ты по углам тискаешься.
– А ты и рада хвостом сплетни собирать.
Невестка фыркнула.