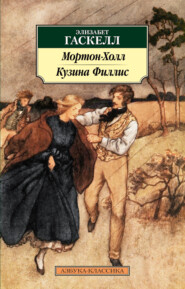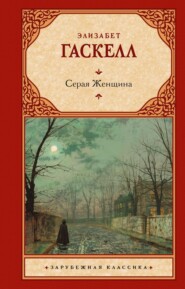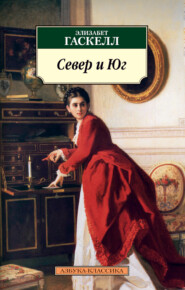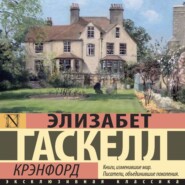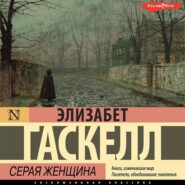По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под покровом ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глядя на его нелепые потуги, местные сквайры, его клиенты, только смеялись над ним и определенно не стали относиться к нему с большим уважением.
Мистер Данстер, тот самый нанятый им помощник, вел себя скромно и вид имел вполне респектабельный. Никто не назвал бы его джентльменом, но и не упрекнул бы в вульгарности. На его маловыразительном лице словно застыло одно постоянное выражение – напряженной сосредоточенности на предмете его дум, каков бы ни был сей предмет; выражение, которое одинаково пристало как юристу, так и доктору: чрезвычайно удачное выражение лица для представителей обеих этих профессий. Иногда его глубоко посаженные глаза внезапно озарялись вспышкой мысли, но тотчас же и гасли, словно повинуясь внутреннему запрету, и на лицо вновь возвращалось привычное бесстрастно-задумчивое выражение. Приступив к своим новым обязанностям, он безропотно принялся наводить порядок в бумагах, а после и в делах, стоявших за этими бумагами, – методичный порядок, какого не было в конторе со смерти мистера Уилкинса-старшего. Пунктуальный до доли секунды, мистер Данстер в первое же свое рабочее утро с недовольным удивлением встретил младших клерков, гурьбой ввалившихся в контору на полчаса позже установленного времени, и надо сказать, его взгляд оказался много действеннее слов иных начальников. С того дня подчиненные являлись на пять минут раньше положенного часа, однако Данстер всегда был на месте прежде них. Мистер Уилкинс и сам невольно поеживался от педантичности и пунктуальности своего помощника. Приподнятая бровь и неприметное подергивание губ мистера Данстера, докладывавшего ему о прискорбном беспорядке в делах, задевали его сильнее, чем любое открытое порицание: второе он преспокойно отмел бы, на лету придумав какое-нибудь объяснение. Так в душе мистера Уилкинса поселилась тайная, с оттенком почтительного страха неприязнь к мистеру Данстеру. Он, безусловно, уважал его, высоко ценил – и на дух не выносил. В последние годы мистер Уилкинс все чаще шел на поводу у своих чувств и все реже прислушивался к доводам рассудка. И теперь он не столько подавлял, сколько растравлял в себе необъяснимое отвращение к размеренной интонации скрипучего голоса мистера Данстера, к его провинциальной, резавшей слух манере гнусавить. Особенно невзлюбил мистер Уилкинс бутылочно-зеленый сюртук стряпчего, который тот привез с собой в Хэмли, и с каким-то детским злорадством наблюдал, как ненавистная деталь гардероба постепенно ветшает. Со временем обнаружилось, что мистер Данстер питает странное – извращенное с точки зрения хорошего вкуса – пристрастие к этому отвратительному цвету: все свое верхнее платье, как для выхода, так и для службы, он шил из ткани точно такого оттенка зеленого. Сие открытие отнюдь не умерило глухого раздражения мистера Уилкинса. Но хуже всего было сознавать, что мистер Данстер – и впрямь бесценное приобретение, «чистое сокровище», как отзывался о нем тот же мистер Уилкинс в мужской компании после обеда. И по мере того как он все больше убеждался в незаменимости Данстера – без которого сам был теперь как без рук, – его инстинктивная неприязнь переросла в ненависть к этому «сокровищу».
Клиенты мистера Уилкинса подхватили его слова: со всех сторон только и слышалось, что мистер Данстер – бесценная находка для конторы, подлинное сокровище, что без него все пропало бы. Никто с таким упорством не пекся об их интересах, даже мистер Уилкинс-старший. Какая ясная голова, какое знание закона, какой усердный, честный малый – и всегда на посту, как часовой! Ни его скрипучего голоса, ни тягучего выговора, ни бутылочно-зеленого сюртука никто не замечал; а если и замечал, то относился к этому намного благодушнее, чем к мотовству Уилкинса, к его баснословно дорогим винам и лошадям, к его безумной затее доказать родство с пресловутыми Уилкинсами из Уэльса, к его новомодному брогаму, решительно непригодному для проселочных дорог и грубых булыжных мостовых – в такой повозке и убиться недолго!
Все эти пересуды не достигали ушей Элеоноры и не омрачали ее жизни. Горячо любимый отец по-прежнему стоял для нее выше всех: милый, добрый, порядочный, обворожительный в разговоре, безупречно воспитанный, осведомленный обо всем на свете – словом, само совершенство! Элеонора обладала счастливым и здоровым свойством видеть в каждом его лучшую сторону. Она искренне любила мисс Монро и всех домашних слуг, особенно Диксона, старшего кучера. В детстве он и ее отец вместе играли, и естественная свобода в их общении, зародившись в ту далекую пору, впоследствии до конца не исчезла, несмотря на то что Диксон глубоко чтил хозяина и восхищался им. Славный человек и преданный слуга, Диксон был настолько же по сердцу мистеру Уилкинсу, насколько Данстер был ему противен. Пользуясь привилегией фаворита, Диксон мог позволить себе такие высказывания, какие в устах другого слуги звучали бы дерзостью.
Только ему Элеонора поверяла свои девичьи планы и помыслы – все то, о чем не смела говорить с мистером Корбетом, который после отца и Диксона был ее лучшим другом. Мистер Корбет не одобрял доверительных отношений Элеоноры и Диксона. Раз или два он исподволь дал ей понять, что, по его мнению, фамильярность со слугами ни к чему хорошему не ведет: не стоит вести доверительные беседы с тем, кто принадлежит к совершенно иному классу, как Диксон. Но она не привыкла к намекам – прежде все говорили с ней прямо, и в конце концов мистеру Корбету пришлось высказаться без околичностей. Тогда-то он впервые узнал, что Элеонора может рассердиться. Однако она была слишком юна и неопытна, не научилась еще подбирать для своих чувств нужные слова, поэтому ее речь представляла собой череду оборванных фраз и восклицаний: «Как вам не стыдно! Славный, милый Диксон! Да он ничуть не хуже любого благородного джентльмена! Честный, преданный, добрый… Я намного больше люблю его, чем вас, мистер Корбет, и я буду, буду вести с ним беседы!» Она разрыдалась и выбежала вон, даже не простившись с ним, хотя знала, что не скоро увидит его: наутро он уезжал – сперва в отцовский дом, а оттуда в Кембридж.
Молодой человек не ожидал, что его добрый совет может привести к столь непредвиденному результату, – совет, который он почитал своим долгом дать выросшей без матери девушке, ибо кто наставит ее, кто привьет ей приличия? Его-то сестры сызмальства впитывали благопристойность из всей атмосферы своего дома и воспитания! Он покидал Хэмли расстроенный и недовольный. Когда наутро после размолвки Элеонора обнаружила, что он таки уехал – уехал, не заглянув в Форд-Бэнк проверить, не раскаялась ли она за свою вспышку, уехал, не сказав и не услышав ни слова на прощание, – она заперлась в своей комнате и залилась слезами. Никогда еще ей не было так горько – она и кляла себя, и оплакивала свою утрату. По счастью, в тот день ее отец проводил вечер в гостях, иначе он непременно стал бы допытываться, какая беда приключилась с его ненаглядной девочкой, и ей пришлось бы объяснять ему то, чего нельзя объяснить. В его отсутствие все было проще. Когда в классную подали чай, Элеонора села спиной к свету, и как только мисс Монро занялась изучением испанского языка, выскользнула в сад, чтобы вновь оплакать свою несдержанность и отъезд мистера Корбета. Но августовский вечер был так тих и ласков, что ее бурное горе казалось неуместным, словно сама природа велела ей, как и всем прочим юным созданиям, уняться и остыть, ибо настал час покоя и небеса притушили свет.
Позади дома был разбит цветник, окруженный большим, ничем не засаженным участком, который никогда не зарастал ни кустарником, ни мелколесьем, но представлял собой широко раскинувшийся ковер зеленой луговой травы с единственной купой могучих старых деревьев. Их узловатые корни выступали из земли, а по осени скрывались под слоем опавших листьев, таким толстым, что весной земля под деревьями напоминала неряшливую кучу перегноя, которую забыли разровнять. Это впечатление скрадывалось множеством подснежников – нигде они не цвели так обильно, как здесь с приходом весны.
Элеонора облюбовала корни старых деревьев для своих детских игр: в одной ложбинке между корнями разместилась кукольная кухня, в другой – гостиная и так далее. Мистер Корбет не оценил ее изобретательности, окинув кукольный интерьер весьма презрительным взглядом. А вот Диксон с удовольствием участвовал в ее игре и без конца что-то придумывал, словно ему было не сорок лет от роду, а самое большее шесть. В тот вечер Элеонора по привычке наведалась в любимый уголок и увидела, что в гостиной ее «мисс Долли» появилась новая коллекция предметов из еловых шишек, чудесно вписавшихся в обстановку. Она сразу поняла, чьих это рук дело, и кинулась на поиски Диксона, чтобы поблагодарить его.
– Чем опечалена моя красавица? – спросил Диксон, едва завершился приятный ритуал горячих изъявлений благодарности с обеих сторон и он внимательно взглянул на ее заплаканное личико.
– Ах, не знаю, право, пустяки! – покраснев, сказала она.
Диксон промолчал и пару минут терпеливо слушал ее быстрый сбивчивый щебет, которым она пыталась отвлечь его внимание, но после вернулся к своему вопросу:
– Может быть, я сумею помочь беде?
– Ах нет, это пустое… право, пустое! Просто мистер Корбет уехал, не простившись со мной, только и всего.
Казалось, она сейчас снова расплачется.
– Некрасиво с его стороны, – твердо заявил Диксон.
– Но я сама виновата! – возразила Элеонора, всем своим тоном призывая не судить молодого человека слишком строго.
Диксон пристально посмотрел на нее из-под косматых бровей, и она продолжила:
– Он прочел мне нотацию, дескать, я веду себя не так, как его сестры… Можно подумать, я обязана во всем кому-то подражать!.. Я обозлилась и убежала.
– Выходит, барышня сама не простилась с ним. Это нехорошо, барышня, некрасиво.
– Ах, Диксон, я не люблю наставлений!
– Не очень-то вас донимают наставлениями. По чести сказать, мистер Корбет, пожалуй, прав. Ведь что получается: хозяин весь в делах, мисс Монро чересчур учена, ей не до того, а ваша бедная матушка давно в раю. Кто ж научит вас, как полагается вести себя юной леди? У мистера Корбета в жилах течет благородная кровь, этого у него не отнять. Говорят, его отец разводит лучших в Шропшире племенных лошадей – кучу денег вложил в свою конюшню! Надо думать, его сестры сызмальства учились манерам. И моей красавице тоже, наверно, не грех было бы послушать, как правильно себя вести.
– Милый мой Диксон, ты не знаешь, за что он мне выговаривал, и я тебе этого не скажу. Даже если мистер Корбет в чем-то прав, по большому счету он глубоко не прав!
– Ну-ну, не надо расстраиваться, барышня, будьте умницей… Вот и ладно. Не то хозяин, чего доброго, заметит, огорчится, а у него и так забот хоть отбавляй, без ваших заплаканных глазок, храни их Господь!
– Забот? Каких забот, Диксон? О чем ты говоришь? – заволновалась Элеонора, и ее полудетское личико мгновенно преобразилось: теперь это было лицо встревоженной женщины, все мысли и чувства которой устремлены на предмет ее забот.
– Так, ни о чем, я ничего не знаю, – уклончиво ответил Диксон. – Только не нравится мне этот Данстер, и, думаю, хозяину он тоже надоел своей мышиной возней.
– Негодный мистер Данстер! – возмутилась Элеонора. – Еще раз явится сюда ужинать – слова ему не скажу!
– Барышня должна делать все, чтобы угодить отцу, – назидательно произнес Диксон, и на том друзья разошлись.
Глава четвертая
На следующее лето мистер Корбет снова приехал к мистеру Нессу. По его собственному мнению, он ничуть не изменился с прошлого года, и действительно, рано повзрослев, как наружно, так и внутренне, он почти не менялся, несмотря на значительный интеллектуальный рост. Тем удивительнее для него было наблюдать разительную перемену в Элеоноре Уилкинс. Она сильно вытянулась, превратившись из щупленькой девочки в высокую, стройную девушку с задатками настоящей красавицы, хотя всего год назад ее лицо ничего подобного не обещало, если не считать ее прекрасных глаз. Теперь вдруг стало очевидно, какая у нее изумительно чистая, немного смуглая кожа – еще недавно из-за отсутствия румянца он назвал бы этот оттенок «болезненным»; как нежна линия гладкой, словно отполированный мрамор, щеки; какие ровные, белые зубы; какие прелестные ямочки играют на щеках, когда ее лицо освещается редкой улыбкой…
Своего друга-моралиста Элеонора встретила робко и настороженно, слишком хорошо помня, как они расстались: она не думала, что он мог простить, а тем более забыть ее вспышку. По правде говоря, через несколько часов после их размолвки он выбросил из головы эту досадную историю и больше о ней не вспоминал. Бедняжка Элеонора, желая доказать свое раскаяние, изо всех сил сдерживала ребяческие порывы, дабы уверить молодого человека в том, что отныне готова во всем следовать его наставлениям – с одной-единственной оговоркой: она никогда не предаст своего верного друга Диксона в угоду мистеру Корбету или кому бы то ни было еще. Вследствие новой линии поведения она неожиданно явила себя элегантной, полной достоинства юной леди, а не порывистой провинциальной девочкой, какой он запомнил ее. И все же, присмотревшись к этой новой Элеоноре, он понял, что под завесой благонравия и даже некоторой чопорности таится ее былой вольный дух, которого ему теперь так не хватало. Он то и дело напоминал ей о прежних днях, о ее веселых детских забавах – все для того, чтобы вернуть ее сдержанным манерам и речам аромат живой непосредственности.
Он преуспел. Никто из окружающих – ни мистер Уилкинс, ни мисс Монро, ни мистер Несс – не догадывался, что происходит с юной парой, да они и сами о том не ведали. Но еще до конца лета они без памяти влюбились друг в друга, хотя правильнее было бы сказать, что Элеонора без памяти влюбилась в него, а он полюбил ее так, как только был способен любить: разум всегда брал у него верх над страстями и привязанностями.
Что касается слепоты окружающих, то все объясняется просто. Для мистера Уилкинса дочь по-прежнему оставалась ребенком, его ненаглядной девочкой, его любимицей – и не более. Мисс Монро с головой ушла в самосовершенствование. Мистер Несс был поглощен работой над новым изданием сочинений Горация с собственными комментариями. Полагаю, у Диксона глаз оказался бы намного прозорливее, однако по очевидным причинам Элеонора держала мистера Корбета на порядочном расстоянии от Диксона: она дорожила дружбой с обоими, но хорошо знала, что мистер Корбет не жалует Диксона, и подозревала, что это чувство взаимно.
Влюбленность молодых людей была единственным существенным отличием нынешнего года от предыдущего. В остальном все текло как обычно. День Элеоноры складывался примерно следующим образом: встав спозаранку, она до завтрака работала в саду, после чего готовила отцу и мисс Монро утренний чай, который подавала в столовой; возле отцовской тарелки всегда лежал свежий букетик цветов. После завтрака, если разговор принимал характер тривиального обмена репликами на общие темы, мистер Уилкинс удалялся в свой кабинет. Дверь в него располагалась в коридорчике между столовой и кухней, по левую руку от холла. С другой стороны холла, симметрично столовой, находилась гостиная; застекленная дверь в боковой стене соединяла ее с оранжереей, откуда можно было пройти и в библиотеку. Старый мистер Уилкинс пристроил к библиотеке полукруглый выступ с куполом для демонстрации скульптур, приобретенных сыном в Италии. Библиотека была, несомненно, главной достопримечательностью и украшением дома, а потому гостиной пользовались редко и в ней, как во всяком нежилом помещении, воцарился холодный дух запустения. Кабинет мистера Уилкинса тоже не был предусмотрен изначальным планом дома и выступал из наружной стены – его пристроили всего за несколько лет до описываемых событий. С холлом его соединял небольшой, вымощенный камнем коридор, узкий и темный, с одной-единственной дверью – в кабинет хозяина.
По форме кабинет представлял собой шестиугольник: одна грань – окно, другая – камин; в остальных четырех были двери: две из них (в коридор и оранжерею) мы уже упомянули, еще одна выходила на узкую винтовую лестницу, которая заканчивалась в спальне мистера Уилкинса, расположенной прямо над столовой, а последняя, четвертая, открывалась в сад – от нее через заросли кустов тянулась тропинка, огибавшая цветник справа (если смотреть от дома). Дальше тропа пересекала конный двор и кратчайшим путем вела вас в Хэмли, почти что к конторе мистера Уилкинса. Только так он всегда и ходил из дома в контору и обратно. Кабинет преимущественно служил ему курительной, хотя он постоянно говорил, что это идеальное место для конфиденциальных переговоров с особо мнительными клиентами, не желающими обсуждать свои дела в конторе, где любое слово может стать достоянием клерков. Этой наружной дверью мистер Уилкинс пользовался, когда хотел сходить на конюшню и лишний раз убедиться, что его любимым – и очень дорогим – лошадям обеспечен надлежащий уход. В утренней инспекции его, как правило, сопровождала Элеонора. Сперва она подавала отцу пальто, проверяла, не нужно ли починить его перчатки, – словом, окружала его веселой и милой заботой; потом, уцепившись за него, шла с ним на конюшню и, пока он разговаривал с Диксоном, приближалась к какой-нибудь пугливой лошадке и, ласково приговаривая, начинала успокаивать ее, поглаживать, трепать по шее и кормить с руки хлебом. Дождавшись, когда отец освободится, – а ждать приходилось порой очень долго, – Элеонора возвращалась домой, в классную комнату, к мисс Монро и урокам. Она честно старалась усвоить науку, но для систематических занятий ей вечно не хватало времени. Если бы отец интересовался ее успехами в какой-либо области знаний, она непременно проявила бы большое усердие и многого добилась бы, благо умом и способностями природа ее не обделила. Но мистер Уилкинс, превыше всего ценивший праздность и удовольствия, вовсе не желал превращаться в педагога – в коего непременно превратился бы в своих собственных глазах, задайся он целью дать Элеоноре настоящее образование и возложи на себя обязанность регулярно следить за ее успехами. С него было более чем достаточно того, что общее умственное развитие вкупе с любовью к чтению, пусть бессистемному и неразборчивому, делали дочь приятной и всегда желанной компанией в часы его досуга.
В полдень Элеонора с радостным нетерпением откладывала учебники и, поцеловав в знак благодарности мисс Монро, спрашивала, состоится ли нынче предписанная им большая прогулка. Ее отнюдь не огорчало, если в ответ она слышала, что, пожалуй, им лучше прогуляться по саду. Мисс Монро частенько склонялась к такому решению: усталость, грязь, крутые подъемы и перспектива вымокнуть под дождем совершенно ее не прельщали. Все вышеперечисленное, с ее точки зрения, относилось к разряду «напастей», и любая прогулка по сельской местности была ими чревата. Элеонора вприпрыжку бежала в сад, ухаживала за своими цветами, играла в куклы среди древесных корней, а если получалось ненадолго выманить Диксона к цветнику, расспрашивала его про собак и лошадей. Отец, при всей своей снисходительности, строго-настрого запретил Элеоноре ходить без него на конный двор, и потому с Диксоном она встречалась либо в цветнике, либо поблизости, на траве под деревьями. Мисс Монро тем временем нежилась на солнышке возле цветочных часов – центральной клумбы пестрого цветника, одинаково хорошо видного из окна столовой и кабинета.
В час дня Элеонора и мисс Монро обедали, после чего гувернантке требовался часок покоя для правильного пищеварения, а Элеонора снова бежала в сад. Уроки возобновлялись в три и продолжались до пяти. В пять учительница и ученица шли переодеться к чаю, который им подавали в классную комнату в половине шестого. После чая Элеонора садилась делать домашнее задание, но каждую минуту прислушивалась, не идет ли отец, и, чуть заслышав его шаги, отбрасывала книгу и срывалась ему навстречу с объятиями и поцелуями. Отец ужинал в семь – редко в одиночестве. Как правило, четыре дня из семи он ужинал в гостях, а если выпадал свободный вечер, старался зазвать кого-нибудь к себе для компании. Обычно его сотрапезником оказывался мистер Несс – вместе с мистером Корбетом, когда тот жил в Хэмли, – а иногда просто какой-то знакомый или один из клиентов. Время от времени и с большой неохотой, только чтобы не давать повода для обиды, мистер Уилкинс приглашал к себе мистера Данстера. В таких случаях трапеза длилась недолго. Отужинав, оба сразу вставали из-за стола и шли к Элеоноре в библиотеку, словно все темы для их разговора тет-а-тет были исчерпаны. С другими гостями мистер Уилкинс подолгу засиживался за столом, с каждым годом все дольше и дольше: с мистером Нессом – потому что оба любили поговорить друг с другом; с кем-то еще – потому что вино у Уилкинса было отменное и глупо было бы гостю не выпить еще, коли угощают.
Мистер Корбет обычно оставлял своего учителя и мистера Уилкинса наедине, а сам как бы невзначай заглядывал в библиотеку. Там коротали вечер Элеонора и мисс Монро, каждая со своим вышиванием. Он садился возле Элеоноры на табурет, заговаривал с ней, поддразнивал ее, тормошил, и через несколько минут молодые люди были уже целиком поглощены друг другом. Что касается мисс Монро и ее представлений о приличиях, то на сей счет она раз навсегда решила не беспокоиться: надо думать, мистер Уилкинс знает, что делает, если допускает подобную близость между молодым человеком и собственной дочерью. Да и то сказать – она еще дитя!
С некоторых пор мистер Корбет взял себе за правило каждый день около двенадцати наведываться в Форд-Бэнк за свежим номером «Таймс» и до часу проводить время в саду – не то чтобы с Элеонорой и не то чтобы с мисс Монро, хотя первая определенно интересовала его больше, чем вторая.
У мисс Монро сложилось впечатление, что молодой человек не отказался бы разделить с ними их ранний обед, но она ни разу не предложила ему остаться, а без ее приглашения это было бы не комильфо. Он много рассказывал Элеоноре про свою мать и сестер, про их привычки и образ жизни. О матери, сестрах, отце он говорил так, словно подготавливал Элеонору к тому, что в один прекрасный день ей непременно доведется познакомиться с ними – и очень близко. Обрисованная им перспектива не вызывала у нее ни сомнений, ни возражений: Элеонора принимала ее как данность.
Мистер Корбет постоянно спрашивал себя, не лучше ли до отъезда в Кембридж поговорить с ней напрямик и заручиться ее обещанием хранить ему верность, – или оставить все как есть. Ему не хотелось на этом этапе официально просить ее руки у мистера Уилкинса, хотя по правилам именно так и следовало бы поступить, учитывая юный возраст девицы, ведь ей только-только исполнилось шестнадцать. Не то чтобы он предвидел какие-либо осложнения со стороны мистера Уилкинса: его молчаливое одобрение их тесной дружбы, которая у молодых людей почти всегда заканчивается чем-то большим, было красноречивее всяких слов. Но тогда неизбежно встал бы вопрос о согласии его собственного отца, а тот пребывал в полном неведении и подобную новость счел бы мальчишеской блажью. Как будто в свои двадцать один Ральф не мужчина, как будто он сам не ведает, что творит! А между тем он ясно знает, чего хочет, и полон решимости настоять на своем; точно так же он всегда будет тверд в выборе цели и не свернет с намеченного пути, пока не добьется независимости и славы – всего, чего можно добиться силой ума и силой воли!
Нет, не станет он говорить с мистером Уилкинсом, отложит разговор еще на год или два.
Но открыть ли Элеоноре свою любовь – свое намерение жениться на ней?
И вновь он осмотрительно предпочел молчание. Не потому, что боялся передумать, – он был уверен в себе. Просто он понимал, что за этим последует. Объяви он ей открыто о своих чувствах, она обязана будет поставить в известность своего отца. Если бы она поступила иначе, он сам меньше уважал бы и любил ее. Но такой поворот событий повлечет за собой дальнейшие обсуждения и в конце концов все опять упрется в его отца, а это именно то обстоятельство, из-за которого он счел преждевременным просить у мистера Уилкинса руки его дочери.
В любви Элеоноры он был уверен так, как если бы она вслух произнесла все мыслимые женские клятвы; он лучше, чем она сама, знал, что ее девичье сердце без остатка принадлежит ему. Мысль о ее непостоянстве гордец не допускал. «К тому же, – убеждал он себя, – кого она здесь видит? Пустоголовых Холстеров, которые должны бы почитать за честь иметь такую кузину, а вместо этого пренебрегают ею и давеча, обедая у ее отца, свысока отзывались о нем? Недалекие жители сей английской Беотии[6 - Беотия – область Центральной Греции с преимущественно крестьянским населением; в древние времена афиняне подшучивали над мужицкой тупостью беотийцев.] носятся со мной как с писаной торбой, потому что мой отец ведет свой род от Плантагенетов – а вовсе не потому, что ценят меня! – и не желают знаться с Элеонорой. Они задирают нос перед ее отцом, не могут забыть, что старый Уилкинс по своему происхождению был никто. Тем хуже для них! И тем лучше для меня и моих планов. Я выше их дремучих предрассудков и с радостью назову Элеонору своей женой, дайте срок! И вообще, кто сказал, что дочь преуспевающего атторнея не пара мне? Положение младшего сына в семье незавидно. Года через три-четыре Элеонора расцветет, и это тот тип женщины, который особенно по сердцу моему отцу, – великолепная фигура, красивые руки, длинные стройные ноги. Надо просто набраться терпения, не торопить события, дождаться подходящего момента – и все сложится наилучшим образом».
Он тепло простился с Элеонорой и выразил сожаление по поводу предстоящей разлуки, хотя такую прощальную речь можно было бы смело произнести на рыночной площади в Хэмли: почти теми же словами он простился и с мисс Монро. Мистер Уилкинс, пожалуй, ожидал, что молодой человек откроет ему свои чувства, – с некоторых пор отец Элеоноры стал о них догадываться. Так как этого не случилось, он приготовился выслушать признание дочери. Но ей нечего было поведать ему, в чем он совершенно уверился, наблюдая за ее откровенной, без тени смущения манерой, когда после вечерней трапезы остался с дочерью наедине. А он, между прочим, отказался от приглашения и сам не позвал к себе мистера Несса ради доверительной беседы со своей бедной девочкой, выросшей без материнского совета. И вот итог – ей попросту не в чем признаться! Мистер Уилкинс едва не рассердился; однако, увидев, что дочь, хоть и грустна, пребывает в мире с собой и людьми, начал с присущим ему оптимизмом склоняться к мысли, что молодой человек проявил благоразумие: к чему, в самом деле, преждевременно раскрывать бутон ее незрелых чувств?
Следующие два года не принесли больших перемен – по крайней мере, на взгляд небрежного наблюдателя. Как рассказывали мне те, кому довелось присутствовать на войсковом смотре, марширующие по равнине полки производят странное впечатление: издали кажется, будто они печатают шаг на месте, – пока не выберешь для сравнения какой-нибудь незыблемый ориентир; в противном случае это размеренное, без конца повторяющееся движение создает у вас полную иллюзию неподвижности. Подобным образом непросто было разглядеть грядущие невзгоды в плавном течении повседневной жизни отца и дочери, а тем временем над их привычно монотонным существованием нависла беда, как если бы к воротам их дома подошел вооруженный до зубов враг. Задолго до того, как мистер Уилкинс начал различать ее контуры, она неприметно, издали надвигалась на него – как надвигается на каждого из нас в эту самую минуту: и вам, читатель, и мне, пишущей эти строки, грозит беда, каждому своя. Возможно, она покуда скрывается за туманной линий нашего горизонта, но от гулкого эха ее поступи в ночной тишине у нас больно сжимается сердце. Блаженны вверяющие себя в руки Господни, а не людские; и вдвойне тяжек удел того, кто, повстречавшись с бедой, обречен до конца своих дней пить из чаши судьбы горький настой раскаяния.
Год от года мистер Уилкинс все больше предавался праздности и удовольствиям, не слишком беспокоясь о полезном содержании своего досуга: привычка во всем себе потакать обычно к тому и ведет. Он стал меньше интересоваться книгами, требовавшими мало-мальского напряжения ума, гравюрами и скульптурами – теперь его больше занимали картины. Он по-прежнему тратил огромные деньги на лошадей и все чаще заботился о том, что он нынче будет есть и что пить[7 - Отсылка к Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться… Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 25–33).]. Во всем этом не было никакой злонамеренности – не то чтобы в нем проснулась неодолимая тяга к чему-то богопротивному, изменившая весь строй его мыслей и весь образ жизни. Половина людей из его окружения жила примерно теми же заботами, сколько он мог судить по внешним признакам, не вдаваясь в детали. Однако у большинства его знакомых были свои обязанности, которые они добросовестно исполняли в те часы, когда он не мог их наблюдать. Да, я сознательно говорю «обязанности», хотя это могли быть и добровольно взятые на себя обязательства во благо общества. Так или иначе, люди почитали своим долгом заниматься делом – не важно, подразумевало оно публичные речи или вовсе обходилось без слов. И мистер Хетерингтон, главный распорядитель охоты, встававший ни свет ни заря, чтобы проверить, все ли в порядке на псарне, и присмотреть за работниками, и суровый старик сэр Лайонел Плейфэр, неподкупный мировой судья, строгий, но справедливый, и многие, многие другие – все в меру своего разумения отвечали за свое дело. Среди тех, с кем мистер Уилкинс встречался только на охоте да на званых обедах, любителей работать спустя рукава почти не было. Даже мистер Несс – хотя возложенную на него миссию главы прихода он мог бы исполнять с большим рвением, – даже мистер Несс целиком отдавался занятиям с учениками и часами сидел над новым изданием римского классика. И только мистер Уилкинс, разочарованный своим статусом, манкировал своими обязанностями. Он подражал забавам стоящих выше его на общественной лестнице и завидовал их воображаемой свободе: насколько лучше распорядился бы неограниченным досугом такой человек, как он, с его утонченным умом, вкусом, воспитанием, нежели вся эта тупая деревенщина, эти грубые, ограниченные, ни разу не выезжавшие за границу сельские сквайры (чьим обществом, заметим, он отнюдь не пренебрегал).
Из сибарита-интеллектуала мистер Уилкинс все больше превращался в банального бездельника. По утрам он долго нежился в постели, а после злился на мистера Данстера за многозначительный взгляд, который помощник бросал на конторские часы, прежде чем объявить хозяину, что его уже битый час дожидается такой-то клиент, прибывший к назначенному времени.
– Отчего вы не приняли его сами, Данстер? Вы справились бы не хуже меня, нисколько в этом не сомневаюсь, – говорил в таких случаях мистер Уилкинс, отвешивая комплимент человеку, которого не любил и побаивался.
– Помилуйте, сэр, господа не желают обсуждать свои дела с подчиненным, – неизменно отвечал мистер Данстер, всем своим тусклым тоном показывая, что понимает и принимает такой порядок вещей.
Мистер Данстер, тот самый нанятый им помощник, вел себя скромно и вид имел вполне респектабельный. Никто не назвал бы его джентльменом, но и не упрекнул бы в вульгарности. На его маловыразительном лице словно застыло одно постоянное выражение – напряженной сосредоточенности на предмете его дум, каков бы ни был сей предмет; выражение, которое одинаково пристало как юристу, так и доктору: чрезвычайно удачное выражение лица для представителей обеих этих профессий. Иногда его глубоко посаженные глаза внезапно озарялись вспышкой мысли, но тотчас же и гасли, словно повинуясь внутреннему запрету, и на лицо вновь возвращалось привычное бесстрастно-задумчивое выражение. Приступив к своим новым обязанностям, он безропотно принялся наводить порядок в бумагах, а после и в делах, стоявших за этими бумагами, – методичный порядок, какого не было в конторе со смерти мистера Уилкинса-старшего. Пунктуальный до доли секунды, мистер Данстер в первое же свое рабочее утро с недовольным удивлением встретил младших клерков, гурьбой ввалившихся в контору на полчаса позже установленного времени, и надо сказать, его взгляд оказался много действеннее слов иных начальников. С того дня подчиненные являлись на пять минут раньше положенного часа, однако Данстер всегда был на месте прежде них. Мистер Уилкинс и сам невольно поеживался от педантичности и пунктуальности своего помощника. Приподнятая бровь и неприметное подергивание губ мистера Данстера, докладывавшего ему о прискорбном беспорядке в делах, задевали его сильнее, чем любое открытое порицание: второе он преспокойно отмел бы, на лету придумав какое-нибудь объяснение. Так в душе мистера Уилкинса поселилась тайная, с оттенком почтительного страха неприязнь к мистеру Данстеру. Он, безусловно, уважал его, высоко ценил – и на дух не выносил. В последние годы мистер Уилкинс все чаще шел на поводу у своих чувств и все реже прислушивался к доводам рассудка. И теперь он не столько подавлял, сколько растравлял в себе необъяснимое отвращение к размеренной интонации скрипучего голоса мистера Данстера, к его провинциальной, резавшей слух манере гнусавить. Особенно невзлюбил мистер Уилкинс бутылочно-зеленый сюртук стряпчего, который тот привез с собой в Хэмли, и с каким-то детским злорадством наблюдал, как ненавистная деталь гардероба постепенно ветшает. Со временем обнаружилось, что мистер Данстер питает странное – извращенное с точки зрения хорошего вкуса – пристрастие к этому отвратительному цвету: все свое верхнее платье, как для выхода, так и для службы, он шил из ткани точно такого оттенка зеленого. Сие открытие отнюдь не умерило глухого раздражения мистера Уилкинса. Но хуже всего было сознавать, что мистер Данстер – и впрямь бесценное приобретение, «чистое сокровище», как отзывался о нем тот же мистер Уилкинс в мужской компании после обеда. И по мере того как он все больше убеждался в незаменимости Данстера – без которого сам был теперь как без рук, – его инстинктивная неприязнь переросла в ненависть к этому «сокровищу».
Клиенты мистера Уилкинса подхватили его слова: со всех сторон только и слышалось, что мистер Данстер – бесценная находка для конторы, подлинное сокровище, что без него все пропало бы. Никто с таким упорством не пекся об их интересах, даже мистер Уилкинс-старший. Какая ясная голова, какое знание закона, какой усердный, честный малый – и всегда на посту, как часовой! Ни его скрипучего голоса, ни тягучего выговора, ни бутылочно-зеленого сюртука никто не замечал; а если и замечал, то относился к этому намного благодушнее, чем к мотовству Уилкинса, к его баснословно дорогим винам и лошадям, к его безумной затее доказать родство с пресловутыми Уилкинсами из Уэльса, к его новомодному брогаму, решительно непригодному для проселочных дорог и грубых булыжных мостовых – в такой повозке и убиться недолго!
Все эти пересуды не достигали ушей Элеоноры и не омрачали ее жизни. Горячо любимый отец по-прежнему стоял для нее выше всех: милый, добрый, порядочный, обворожительный в разговоре, безупречно воспитанный, осведомленный обо всем на свете – словом, само совершенство! Элеонора обладала счастливым и здоровым свойством видеть в каждом его лучшую сторону. Она искренне любила мисс Монро и всех домашних слуг, особенно Диксона, старшего кучера. В детстве он и ее отец вместе играли, и естественная свобода в их общении, зародившись в ту далекую пору, впоследствии до конца не исчезла, несмотря на то что Диксон глубоко чтил хозяина и восхищался им. Славный человек и преданный слуга, Диксон был настолько же по сердцу мистеру Уилкинсу, насколько Данстер был ему противен. Пользуясь привилегией фаворита, Диксон мог позволить себе такие высказывания, какие в устах другого слуги звучали бы дерзостью.
Только ему Элеонора поверяла свои девичьи планы и помыслы – все то, о чем не смела говорить с мистером Корбетом, который после отца и Диксона был ее лучшим другом. Мистер Корбет не одобрял доверительных отношений Элеоноры и Диксона. Раз или два он исподволь дал ей понять, что, по его мнению, фамильярность со слугами ни к чему хорошему не ведет: не стоит вести доверительные беседы с тем, кто принадлежит к совершенно иному классу, как Диксон. Но она не привыкла к намекам – прежде все говорили с ней прямо, и в конце концов мистеру Корбету пришлось высказаться без околичностей. Тогда-то он впервые узнал, что Элеонора может рассердиться. Однако она была слишком юна и неопытна, не научилась еще подбирать для своих чувств нужные слова, поэтому ее речь представляла собой череду оборванных фраз и восклицаний: «Как вам не стыдно! Славный, милый Диксон! Да он ничуть не хуже любого благородного джентльмена! Честный, преданный, добрый… Я намного больше люблю его, чем вас, мистер Корбет, и я буду, буду вести с ним беседы!» Она разрыдалась и выбежала вон, даже не простившись с ним, хотя знала, что не скоро увидит его: наутро он уезжал – сперва в отцовский дом, а оттуда в Кембридж.
Молодой человек не ожидал, что его добрый совет может привести к столь непредвиденному результату, – совет, который он почитал своим долгом дать выросшей без матери девушке, ибо кто наставит ее, кто привьет ей приличия? Его-то сестры сызмальства впитывали благопристойность из всей атмосферы своего дома и воспитания! Он покидал Хэмли расстроенный и недовольный. Когда наутро после размолвки Элеонора обнаружила, что он таки уехал – уехал, не заглянув в Форд-Бэнк проверить, не раскаялась ли она за свою вспышку, уехал, не сказав и не услышав ни слова на прощание, – она заперлась в своей комнате и залилась слезами. Никогда еще ей не было так горько – она и кляла себя, и оплакивала свою утрату. По счастью, в тот день ее отец проводил вечер в гостях, иначе он непременно стал бы допытываться, какая беда приключилась с его ненаглядной девочкой, и ей пришлось бы объяснять ему то, чего нельзя объяснить. В его отсутствие все было проще. Когда в классную подали чай, Элеонора села спиной к свету, и как только мисс Монро занялась изучением испанского языка, выскользнула в сад, чтобы вновь оплакать свою несдержанность и отъезд мистера Корбета. Но августовский вечер был так тих и ласков, что ее бурное горе казалось неуместным, словно сама природа велела ей, как и всем прочим юным созданиям, уняться и остыть, ибо настал час покоя и небеса притушили свет.
Позади дома был разбит цветник, окруженный большим, ничем не засаженным участком, который никогда не зарастал ни кустарником, ни мелколесьем, но представлял собой широко раскинувшийся ковер зеленой луговой травы с единственной купой могучих старых деревьев. Их узловатые корни выступали из земли, а по осени скрывались под слоем опавших листьев, таким толстым, что весной земля под деревьями напоминала неряшливую кучу перегноя, которую забыли разровнять. Это впечатление скрадывалось множеством подснежников – нигде они не цвели так обильно, как здесь с приходом весны.
Элеонора облюбовала корни старых деревьев для своих детских игр: в одной ложбинке между корнями разместилась кукольная кухня, в другой – гостиная и так далее. Мистер Корбет не оценил ее изобретательности, окинув кукольный интерьер весьма презрительным взглядом. А вот Диксон с удовольствием участвовал в ее игре и без конца что-то придумывал, словно ему было не сорок лет от роду, а самое большее шесть. В тот вечер Элеонора по привычке наведалась в любимый уголок и увидела, что в гостиной ее «мисс Долли» появилась новая коллекция предметов из еловых шишек, чудесно вписавшихся в обстановку. Она сразу поняла, чьих это рук дело, и кинулась на поиски Диксона, чтобы поблагодарить его.
– Чем опечалена моя красавица? – спросил Диксон, едва завершился приятный ритуал горячих изъявлений благодарности с обеих сторон и он внимательно взглянул на ее заплаканное личико.
– Ах, не знаю, право, пустяки! – покраснев, сказала она.
Диксон промолчал и пару минут терпеливо слушал ее быстрый сбивчивый щебет, которым она пыталась отвлечь его внимание, но после вернулся к своему вопросу:
– Может быть, я сумею помочь беде?
– Ах нет, это пустое… право, пустое! Просто мистер Корбет уехал, не простившись со мной, только и всего.
Казалось, она сейчас снова расплачется.
– Некрасиво с его стороны, – твердо заявил Диксон.
– Но я сама виновата! – возразила Элеонора, всем своим тоном призывая не судить молодого человека слишком строго.
Диксон пристально посмотрел на нее из-под косматых бровей, и она продолжила:
– Он прочел мне нотацию, дескать, я веду себя не так, как его сестры… Можно подумать, я обязана во всем кому-то подражать!.. Я обозлилась и убежала.
– Выходит, барышня сама не простилась с ним. Это нехорошо, барышня, некрасиво.
– Ах, Диксон, я не люблю наставлений!
– Не очень-то вас донимают наставлениями. По чести сказать, мистер Корбет, пожалуй, прав. Ведь что получается: хозяин весь в делах, мисс Монро чересчур учена, ей не до того, а ваша бедная матушка давно в раю. Кто ж научит вас, как полагается вести себя юной леди? У мистера Корбета в жилах течет благородная кровь, этого у него не отнять. Говорят, его отец разводит лучших в Шропшире племенных лошадей – кучу денег вложил в свою конюшню! Надо думать, его сестры сызмальства учились манерам. И моей красавице тоже, наверно, не грех было бы послушать, как правильно себя вести.
– Милый мой Диксон, ты не знаешь, за что он мне выговаривал, и я тебе этого не скажу. Даже если мистер Корбет в чем-то прав, по большому счету он глубоко не прав!
– Ну-ну, не надо расстраиваться, барышня, будьте умницей… Вот и ладно. Не то хозяин, чего доброго, заметит, огорчится, а у него и так забот хоть отбавляй, без ваших заплаканных глазок, храни их Господь!
– Забот? Каких забот, Диксон? О чем ты говоришь? – заволновалась Элеонора, и ее полудетское личико мгновенно преобразилось: теперь это было лицо встревоженной женщины, все мысли и чувства которой устремлены на предмет ее забот.
– Так, ни о чем, я ничего не знаю, – уклончиво ответил Диксон. – Только не нравится мне этот Данстер, и, думаю, хозяину он тоже надоел своей мышиной возней.
– Негодный мистер Данстер! – возмутилась Элеонора. – Еще раз явится сюда ужинать – слова ему не скажу!
– Барышня должна делать все, чтобы угодить отцу, – назидательно произнес Диксон, и на том друзья разошлись.
Глава четвертая
На следующее лето мистер Корбет снова приехал к мистеру Нессу. По его собственному мнению, он ничуть не изменился с прошлого года, и действительно, рано повзрослев, как наружно, так и внутренне, он почти не менялся, несмотря на значительный интеллектуальный рост. Тем удивительнее для него было наблюдать разительную перемену в Элеоноре Уилкинс. Она сильно вытянулась, превратившись из щупленькой девочки в высокую, стройную девушку с задатками настоящей красавицы, хотя всего год назад ее лицо ничего подобного не обещало, если не считать ее прекрасных глаз. Теперь вдруг стало очевидно, какая у нее изумительно чистая, немного смуглая кожа – еще недавно из-за отсутствия румянца он назвал бы этот оттенок «болезненным»; как нежна линия гладкой, словно отполированный мрамор, щеки; какие ровные, белые зубы; какие прелестные ямочки играют на щеках, когда ее лицо освещается редкой улыбкой…
Своего друга-моралиста Элеонора встретила робко и настороженно, слишком хорошо помня, как они расстались: она не думала, что он мог простить, а тем более забыть ее вспышку. По правде говоря, через несколько часов после их размолвки он выбросил из головы эту досадную историю и больше о ней не вспоминал. Бедняжка Элеонора, желая доказать свое раскаяние, изо всех сил сдерживала ребяческие порывы, дабы уверить молодого человека в том, что отныне готова во всем следовать его наставлениям – с одной-единственной оговоркой: она никогда не предаст своего верного друга Диксона в угоду мистеру Корбету или кому бы то ни было еще. Вследствие новой линии поведения она неожиданно явила себя элегантной, полной достоинства юной леди, а не порывистой провинциальной девочкой, какой он запомнил ее. И все же, присмотревшись к этой новой Элеоноре, он понял, что под завесой благонравия и даже некоторой чопорности таится ее былой вольный дух, которого ему теперь так не хватало. Он то и дело напоминал ей о прежних днях, о ее веселых детских забавах – все для того, чтобы вернуть ее сдержанным манерам и речам аромат живой непосредственности.
Он преуспел. Никто из окружающих – ни мистер Уилкинс, ни мисс Монро, ни мистер Несс – не догадывался, что происходит с юной парой, да они и сами о том не ведали. Но еще до конца лета они без памяти влюбились друг в друга, хотя правильнее было бы сказать, что Элеонора без памяти влюбилась в него, а он полюбил ее так, как только был способен любить: разум всегда брал у него верх над страстями и привязанностями.
Что касается слепоты окружающих, то все объясняется просто. Для мистера Уилкинса дочь по-прежнему оставалась ребенком, его ненаглядной девочкой, его любимицей – и не более. Мисс Монро с головой ушла в самосовершенствование. Мистер Несс был поглощен работой над новым изданием сочинений Горация с собственными комментариями. Полагаю, у Диксона глаз оказался бы намного прозорливее, однако по очевидным причинам Элеонора держала мистера Корбета на порядочном расстоянии от Диксона: она дорожила дружбой с обоими, но хорошо знала, что мистер Корбет не жалует Диксона, и подозревала, что это чувство взаимно.
Влюбленность молодых людей была единственным существенным отличием нынешнего года от предыдущего. В остальном все текло как обычно. День Элеоноры складывался примерно следующим образом: встав спозаранку, она до завтрака работала в саду, после чего готовила отцу и мисс Монро утренний чай, который подавала в столовой; возле отцовской тарелки всегда лежал свежий букетик цветов. После завтрака, если разговор принимал характер тривиального обмена репликами на общие темы, мистер Уилкинс удалялся в свой кабинет. Дверь в него располагалась в коридорчике между столовой и кухней, по левую руку от холла. С другой стороны холла, симметрично столовой, находилась гостиная; застекленная дверь в боковой стене соединяла ее с оранжереей, откуда можно было пройти и в библиотеку. Старый мистер Уилкинс пристроил к библиотеке полукруглый выступ с куполом для демонстрации скульптур, приобретенных сыном в Италии. Библиотека была, несомненно, главной достопримечательностью и украшением дома, а потому гостиной пользовались редко и в ней, как во всяком нежилом помещении, воцарился холодный дух запустения. Кабинет мистера Уилкинса тоже не был предусмотрен изначальным планом дома и выступал из наружной стены – его пристроили всего за несколько лет до описываемых событий. С холлом его соединял небольшой, вымощенный камнем коридор, узкий и темный, с одной-единственной дверью – в кабинет хозяина.
По форме кабинет представлял собой шестиугольник: одна грань – окно, другая – камин; в остальных четырех были двери: две из них (в коридор и оранжерею) мы уже упомянули, еще одна выходила на узкую винтовую лестницу, которая заканчивалась в спальне мистера Уилкинса, расположенной прямо над столовой, а последняя, четвертая, открывалась в сад – от нее через заросли кустов тянулась тропинка, огибавшая цветник справа (если смотреть от дома). Дальше тропа пересекала конный двор и кратчайшим путем вела вас в Хэмли, почти что к конторе мистера Уилкинса. Только так он всегда и ходил из дома в контору и обратно. Кабинет преимущественно служил ему курительной, хотя он постоянно говорил, что это идеальное место для конфиденциальных переговоров с особо мнительными клиентами, не желающими обсуждать свои дела в конторе, где любое слово может стать достоянием клерков. Этой наружной дверью мистер Уилкинс пользовался, когда хотел сходить на конюшню и лишний раз убедиться, что его любимым – и очень дорогим – лошадям обеспечен надлежащий уход. В утренней инспекции его, как правило, сопровождала Элеонора. Сперва она подавала отцу пальто, проверяла, не нужно ли починить его перчатки, – словом, окружала его веселой и милой заботой; потом, уцепившись за него, шла с ним на конюшню и, пока он разговаривал с Диксоном, приближалась к какой-нибудь пугливой лошадке и, ласково приговаривая, начинала успокаивать ее, поглаживать, трепать по шее и кормить с руки хлебом. Дождавшись, когда отец освободится, – а ждать приходилось порой очень долго, – Элеонора возвращалась домой, в классную комнату, к мисс Монро и урокам. Она честно старалась усвоить науку, но для систематических занятий ей вечно не хватало времени. Если бы отец интересовался ее успехами в какой-либо области знаний, она непременно проявила бы большое усердие и многого добилась бы, благо умом и способностями природа ее не обделила. Но мистер Уилкинс, превыше всего ценивший праздность и удовольствия, вовсе не желал превращаться в педагога – в коего непременно превратился бы в своих собственных глазах, задайся он целью дать Элеоноре настоящее образование и возложи на себя обязанность регулярно следить за ее успехами. С него было более чем достаточно того, что общее умственное развитие вкупе с любовью к чтению, пусть бессистемному и неразборчивому, делали дочь приятной и всегда желанной компанией в часы его досуга.
В полдень Элеонора с радостным нетерпением откладывала учебники и, поцеловав в знак благодарности мисс Монро, спрашивала, состоится ли нынче предписанная им большая прогулка. Ее отнюдь не огорчало, если в ответ она слышала, что, пожалуй, им лучше прогуляться по саду. Мисс Монро частенько склонялась к такому решению: усталость, грязь, крутые подъемы и перспектива вымокнуть под дождем совершенно ее не прельщали. Все вышеперечисленное, с ее точки зрения, относилось к разряду «напастей», и любая прогулка по сельской местности была ими чревата. Элеонора вприпрыжку бежала в сад, ухаживала за своими цветами, играла в куклы среди древесных корней, а если получалось ненадолго выманить Диксона к цветнику, расспрашивала его про собак и лошадей. Отец, при всей своей снисходительности, строго-настрого запретил Элеоноре ходить без него на конный двор, и потому с Диксоном она встречалась либо в цветнике, либо поблизости, на траве под деревьями. Мисс Монро тем временем нежилась на солнышке возле цветочных часов – центральной клумбы пестрого цветника, одинаково хорошо видного из окна столовой и кабинета.
В час дня Элеонора и мисс Монро обедали, после чего гувернантке требовался часок покоя для правильного пищеварения, а Элеонора снова бежала в сад. Уроки возобновлялись в три и продолжались до пяти. В пять учительница и ученица шли переодеться к чаю, который им подавали в классную комнату в половине шестого. После чая Элеонора садилась делать домашнее задание, но каждую минуту прислушивалась, не идет ли отец, и, чуть заслышав его шаги, отбрасывала книгу и срывалась ему навстречу с объятиями и поцелуями. Отец ужинал в семь – редко в одиночестве. Как правило, четыре дня из семи он ужинал в гостях, а если выпадал свободный вечер, старался зазвать кого-нибудь к себе для компании. Обычно его сотрапезником оказывался мистер Несс – вместе с мистером Корбетом, когда тот жил в Хэмли, – а иногда просто какой-то знакомый или один из клиентов. Время от времени и с большой неохотой, только чтобы не давать повода для обиды, мистер Уилкинс приглашал к себе мистера Данстера. В таких случаях трапеза длилась недолго. Отужинав, оба сразу вставали из-за стола и шли к Элеоноре в библиотеку, словно все темы для их разговора тет-а-тет были исчерпаны. С другими гостями мистер Уилкинс подолгу засиживался за столом, с каждым годом все дольше и дольше: с мистером Нессом – потому что оба любили поговорить друг с другом; с кем-то еще – потому что вино у Уилкинса было отменное и глупо было бы гостю не выпить еще, коли угощают.
Мистер Корбет обычно оставлял своего учителя и мистера Уилкинса наедине, а сам как бы невзначай заглядывал в библиотеку. Там коротали вечер Элеонора и мисс Монро, каждая со своим вышиванием. Он садился возле Элеоноры на табурет, заговаривал с ней, поддразнивал ее, тормошил, и через несколько минут молодые люди были уже целиком поглощены друг другом. Что касается мисс Монро и ее представлений о приличиях, то на сей счет она раз навсегда решила не беспокоиться: надо думать, мистер Уилкинс знает, что делает, если допускает подобную близость между молодым человеком и собственной дочерью. Да и то сказать – она еще дитя!
С некоторых пор мистер Корбет взял себе за правило каждый день около двенадцати наведываться в Форд-Бэнк за свежим номером «Таймс» и до часу проводить время в саду – не то чтобы с Элеонорой и не то чтобы с мисс Монро, хотя первая определенно интересовала его больше, чем вторая.
У мисс Монро сложилось впечатление, что молодой человек не отказался бы разделить с ними их ранний обед, но она ни разу не предложила ему остаться, а без ее приглашения это было бы не комильфо. Он много рассказывал Элеоноре про свою мать и сестер, про их привычки и образ жизни. О матери, сестрах, отце он говорил так, словно подготавливал Элеонору к тому, что в один прекрасный день ей непременно доведется познакомиться с ними – и очень близко. Обрисованная им перспектива не вызывала у нее ни сомнений, ни возражений: Элеонора принимала ее как данность.
Мистер Корбет постоянно спрашивал себя, не лучше ли до отъезда в Кембридж поговорить с ней напрямик и заручиться ее обещанием хранить ему верность, – или оставить все как есть. Ему не хотелось на этом этапе официально просить ее руки у мистера Уилкинса, хотя по правилам именно так и следовало бы поступить, учитывая юный возраст девицы, ведь ей только-только исполнилось шестнадцать. Не то чтобы он предвидел какие-либо осложнения со стороны мистера Уилкинса: его молчаливое одобрение их тесной дружбы, которая у молодых людей почти всегда заканчивается чем-то большим, было красноречивее всяких слов. Но тогда неизбежно встал бы вопрос о согласии его собственного отца, а тот пребывал в полном неведении и подобную новость счел бы мальчишеской блажью. Как будто в свои двадцать один Ральф не мужчина, как будто он сам не ведает, что творит! А между тем он ясно знает, чего хочет, и полон решимости настоять на своем; точно так же он всегда будет тверд в выборе цели и не свернет с намеченного пути, пока не добьется независимости и славы – всего, чего можно добиться силой ума и силой воли!
Нет, не станет он говорить с мистером Уилкинсом, отложит разговор еще на год или два.
Но открыть ли Элеоноре свою любовь – свое намерение жениться на ней?
И вновь он осмотрительно предпочел молчание. Не потому, что боялся передумать, – он был уверен в себе. Просто он понимал, что за этим последует. Объяви он ей открыто о своих чувствах, она обязана будет поставить в известность своего отца. Если бы она поступила иначе, он сам меньше уважал бы и любил ее. Но такой поворот событий повлечет за собой дальнейшие обсуждения и в конце концов все опять упрется в его отца, а это именно то обстоятельство, из-за которого он счел преждевременным просить у мистера Уилкинса руки его дочери.
В любви Элеоноры он был уверен так, как если бы она вслух произнесла все мыслимые женские клятвы; он лучше, чем она сама, знал, что ее девичье сердце без остатка принадлежит ему. Мысль о ее непостоянстве гордец не допускал. «К тому же, – убеждал он себя, – кого она здесь видит? Пустоголовых Холстеров, которые должны бы почитать за честь иметь такую кузину, а вместо этого пренебрегают ею и давеча, обедая у ее отца, свысока отзывались о нем? Недалекие жители сей английской Беотии[6 - Беотия – область Центральной Греции с преимущественно крестьянским населением; в древние времена афиняне подшучивали над мужицкой тупостью беотийцев.] носятся со мной как с писаной торбой, потому что мой отец ведет свой род от Плантагенетов – а вовсе не потому, что ценят меня! – и не желают знаться с Элеонорой. Они задирают нос перед ее отцом, не могут забыть, что старый Уилкинс по своему происхождению был никто. Тем хуже для них! И тем лучше для меня и моих планов. Я выше их дремучих предрассудков и с радостью назову Элеонору своей женой, дайте срок! И вообще, кто сказал, что дочь преуспевающего атторнея не пара мне? Положение младшего сына в семье незавидно. Года через три-четыре Элеонора расцветет, и это тот тип женщины, который особенно по сердцу моему отцу, – великолепная фигура, красивые руки, длинные стройные ноги. Надо просто набраться терпения, не торопить события, дождаться подходящего момента – и все сложится наилучшим образом».
Он тепло простился с Элеонорой и выразил сожаление по поводу предстоящей разлуки, хотя такую прощальную речь можно было бы смело произнести на рыночной площади в Хэмли: почти теми же словами он простился и с мисс Монро. Мистер Уилкинс, пожалуй, ожидал, что молодой человек откроет ему свои чувства, – с некоторых пор отец Элеоноры стал о них догадываться. Так как этого не случилось, он приготовился выслушать признание дочери. Но ей нечего было поведать ему, в чем он совершенно уверился, наблюдая за ее откровенной, без тени смущения манерой, когда после вечерней трапезы остался с дочерью наедине. А он, между прочим, отказался от приглашения и сам не позвал к себе мистера Несса ради доверительной беседы со своей бедной девочкой, выросшей без материнского совета. И вот итог – ей попросту не в чем признаться! Мистер Уилкинс едва не рассердился; однако, увидев, что дочь, хоть и грустна, пребывает в мире с собой и людьми, начал с присущим ему оптимизмом склоняться к мысли, что молодой человек проявил благоразумие: к чему, в самом деле, преждевременно раскрывать бутон ее незрелых чувств?
Следующие два года не принесли больших перемен – по крайней мере, на взгляд небрежного наблюдателя. Как рассказывали мне те, кому довелось присутствовать на войсковом смотре, марширующие по равнине полки производят странное впечатление: издали кажется, будто они печатают шаг на месте, – пока не выберешь для сравнения какой-нибудь незыблемый ориентир; в противном случае это размеренное, без конца повторяющееся движение создает у вас полную иллюзию неподвижности. Подобным образом непросто было разглядеть грядущие невзгоды в плавном течении повседневной жизни отца и дочери, а тем временем над их привычно монотонным существованием нависла беда, как если бы к воротам их дома подошел вооруженный до зубов враг. Задолго до того, как мистер Уилкинс начал различать ее контуры, она неприметно, издали надвигалась на него – как надвигается на каждого из нас в эту самую минуту: и вам, читатель, и мне, пишущей эти строки, грозит беда, каждому своя. Возможно, она покуда скрывается за туманной линий нашего горизонта, но от гулкого эха ее поступи в ночной тишине у нас больно сжимается сердце. Блаженны вверяющие себя в руки Господни, а не людские; и вдвойне тяжек удел того, кто, повстречавшись с бедой, обречен до конца своих дней пить из чаши судьбы горький настой раскаяния.
Год от года мистер Уилкинс все больше предавался праздности и удовольствиям, не слишком беспокоясь о полезном содержании своего досуга: привычка во всем себе потакать обычно к тому и ведет. Он стал меньше интересоваться книгами, требовавшими мало-мальского напряжения ума, гравюрами и скульптурами – теперь его больше занимали картины. Он по-прежнему тратил огромные деньги на лошадей и все чаще заботился о том, что он нынче будет есть и что пить[7 - Отсылка к Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться… Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 25–33).]. Во всем этом не было никакой злонамеренности – не то чтобы в нем проснулась неодолимая тяга к чему-то богопротивному, изменившая весь строй его мыслей и весь образ жизни. Половина людей из его окружения жила примерно теми же заботами, сколько он мог судить по внешним признакам, не вдаваясь в детали. Однако у большинства его знакомых были свои обязанности, которые они добросовестно исполняли в те часы, когда он не мог их наблюдать. Да, я сознательно говорю «обязанности», хотя это могли быть и добровольно взятые на себя обязательства во благо общества. Так или иначе, люди почитали своим долгом заниматься делом – не важно, подразумевало оно публичные речи или вовсе обходилось без слов. И мистер Хетерингтон, главный распорядитель охоты, встававший ни свет ни заря, чтобы проверить, все ли в порядке на псарне, и присмотреть за работниками, и суровый старик сэр Лайонел Плейфэр, неподкупный мировой судья, строгий, но справедливый, и многие, многие другие – все в меру своего разумения отвечали за свое дело. Среди тех, с кем мистер Уилкинс встречался только на охоте да на званых обедах, любителей работать спустя рукава почти не было. Даже мистер Несс – хотя возложенную на него миссию главы прихода он мог бы исполнять с большим рвением, – даже мистер Несс целиком отдавался занятиям с учениками и часами сидел над новым изданием римского классика. И только мистер Уилкинс, разочарованный своим статусом, манкировал своими обязанностями. Он подражал забавам стоящих выше его на общественной лестнице и завидовал их воображаемой свободе: насколько лучше распорядился бы неограниченным досугом такой человек, как он, с его утонченным умом, вкусом, воспитанием, нежели вся эта тупая деревенщина, эти грубые, ограниченные, ни разу не выезжавшие за границу сельские сквайры (чьим обществом, заметим, он отнюдь не пренебрегал).
Из сибарита-интеллектуала мистер Уилкинс все больше превращался в банального бездельника. По утрам он долго нежился в постели, а после злился на мистера Данстера за многозначительный взгляд, который помощник бросал на конторские часы, прежде чем объявить хозяину, что его уже битый час дожидается такой-то клиент, прибывший к назначенному времени.
– Отчего вы не приняли его сами, Данстер? Вы справились бы не хуже меня, нисколько в этом не сомневаюсь, – говорил в таких случаях мистер Уилкинс, отвешивая комплимент человеку, которого не любил и побаивался.
– Помилуйте, сэр, господа не желают обсуждать свои дела с подчиненным, – неизменно отвечал мистер Данстер, всем своим тусклым тоном показывая, что понимает и принимает такой порядок вещей.