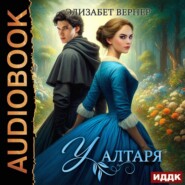По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гонцы весны
Автор
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Совершенно верно! – пробормотал Освальд. – Она тщательно запрятала это, и посторонний глаз никогда не увидел бы его, если бы страх за Эдмунда не ослепил ее сознание. И нужно же было попасть этому как раз в мои руки… здесь более чем случай. Я все-таки думаю, – здесь Освальд гордо и грозно выпрямился, – что имею право спросить, кто изображен на этом портрете, и до тех пор не выпущу его из рук, пока мне не будет дан ответ. – Сунув медальон в боковой карман, он быстро вышел из комнаты.
Страшное известие, принесенное Эбергардом графине, оказалось в действительности более чем преувеличенным. Несчастный случай с Эдмундом не был столь серьезным. При неосторожном прыжке через кочку его ружье разрядилось, но выстрел задел, к счастью, только левую руку, причем это была скорее царапина, чем рана. Несмотря на это, все в замке заволновались; барон Гейдек тотчас же поспешил к племяннику, а графиня не успокоилась до тех пор, пока спешно вызванный доктор не заверил ее, что нет ни малейшей опасности и что от царапины через несколько дней не останется и следа.
Сам Эдмунд относился к происшествию с юмором. Он высмеивал и вышучивал все заботы матери, энергично протестовал против того, чтобы с ним обращались как с раненым, и едва подчинился предписанию доктора не вставать с дивана.
Наступил вечер. Освальд был один у себя в комнате, которой не покидал со времени своего открытия. Горевшая на столе лампа слабо освещала большую и мрачную комнату с темными обоями. На столе лежали различные письма и бумаги, которые Освальд перед отъездом хотел привести в порядок. Но теперь он больше не думал об этом, а неутомимо ходил по комнате, причем сильная бледность лица и высоко вздымавшаяся грудь выдавали его глубокое волнение. То, что смутным, мучительным подозрением долгие годы таилось в его душе, что он часто-часто всеми силами отгонял от себя, с полной очевидностью обнаружилось теперь. Хотя связь событий и история портрета оставались для него загадкой, но они превращали в уверенность долго тлевшее подозрение и вызывали в нем целую бурю противоречивых чувств.
Наконец Освальд остановился перед письменным столом и снова взял роковой портрет, лежавший там среди бумаг.
– В конце концов, что пользы из всего! – горько сказал он. – Мне не надо теперь никакого другого доказательства, но у меня не хватает подтверждения, а единственный человек во всем мире, кто может дать его, будет молчать. Она скорее умрет, чем выскажет признание, которое уничтожит одновременно и ее, и сына, а заставить сделать это признание я не могу. Я не смею отдать на поругание честь нашего рода, даже если бы речь шла о владении Эттерсбергом. И все-таки я должен иметь уверенность, да, во что бы то ни стало!
Он медленно закрыл медальон и снова положил его на стол, в мрачной задумчивости глядя перед собой.
– Есть, может быть, единственный путь. Что, если я покажу этот портрет Эдмунду и попрошу его выяснить это? Он добьется правды у матери, если очень захочет, а он захочет, когда я зароню в его душу подозрение; в этом отношении я знаю его. Конечно, удар жестоко поразит Эдмунда с его легко ранимым чувством чести, с его честным, открытым характером, никогда не знавшим никакой лжи. Он будет вырван из безмятежного спокойствия, из полноты счастья, заклеймен позорным убеждением, что был орудием обмана!.. Я думаю, поняв это, он погибнет.
Любовь к другу юности вспыхнула в душе Освальда с прежней силой, но вместе с ней проснулись и другие, враждебные чувства. Они грозно указывали на неслыханный обман и шептали молодому человеку лукавые речи:
«Неужели ты действительно смолчишь и откажешься от мести, которую тебе вручает сама судьба! Неужели ты молча уйдешь отсюда в темное, зыбкое будущее, подчинишься посторонним, будешь с трудом пробивать себе дорогу и, может быть, погибнешь в напрасной борьбе, между тем как можешь стать господином на той земле, которая по праву принадлежит тебе? Неужели эта женщина, бывшая всегда твоим лютым врагом, должна торжествовать, предоставляя сыну все блага жизни, в то время как тебя, униженного, изгоняют из земли твоих предков? Кто спрашивает тебя о твоих чувствах, о твоей борьбе? Употреби оружие, посланное тебе случаем! Ты знаешь место, где оно поразит наверняка».
Эти обвинительные голоса были правы и находили слишком громкий отклик в сердце Освальда. Все унижения, все обиды, испытанные им в течение многих лет, снова встали перед ним, терзая его душу. Все чувства превратились в ненависть. Графиня задрожала бы от ужаса, если бы увидела теперь лицо племянника. Он не мог выступить против нее с открытым обвинением, но знал, чем легко было ее уязвить.
– Другого пути у меня нет! – решительно проговорил он. – Мне она не уступит ни шага, будет бороться до последнего дыхания. Только Эдмунд способен вырвать у нее тайну. Так пусть же он узнает! Я не желаю больше быть жертвой предательства.
Легкие шаги в коридоре прервали ход его мыслей. Он быстро спрятал медальон под бумаги, лежавшие на столе, и бросил недовольный взгляд на дверь, но вздрогнул, увидев входившего, и воскликнул:
– Эдмунд, ты?
– Ну, не пугайся же так, словно ты видишь перед собой привидение! – промолвил молодой граф, тщательно закрывая за собой дверь. – Я еще пока живой и даже пришел собственной персоной показать тебе, что ты, вопреки моей так называемой ране, не имеешь никакой надежды на майорат.
Эдмунд не подозревал, как поразили двоюродного брата его появление и непринужденная шутка именно в этот момент. Освальду пришлось приложить невероятное усилие, чтобы овладеть собой, и он почти сурово ответил брату:
– Как можно быть таким неосторожным и идти по длинному холодному коридору! Тебе ведь нельзя сегодня покидать своей комнаты.
– Я очень мало обращаю внимания на мудрые предписания доктора, – легкомысленно заметил Эдмунд. – Неужели ты думаешь, что я позволю обращаться с собой как с тяжело раненым из-за того, что у меня оцарапана рука? Ради матери я выдержал несколько часов, а теперь довольно. Мой слуга получил строгий наказ говорить всем, что я сплю, а я пришел к тебе поболтать. Я не могу обойтись без тебя, Освальд; ведь сегодня ты проводишь в Эттерсберге последний вечер.
В последних словах было столько теплоты, что Освальд невольно отвернулся.
– Тогда пойдем, по крайней мере, к тебе в комнату, – поспешно предложил он.
– Нет, здесь безопаснее, – стоял на своем Эдмунд, – опускаясь в кресло. – Мне нужно много рассказать тебе… например, как я получил эту знаменитую рану, взволновавшую весь Эттерсберг, хотя о ней не стоило бы говорить.
Освальд беспокойно взглянул на бумаги, под которыми лежал спрятанный медальон.
– Как это случилось? – рассеянно спросил он. – Мне сказали, что когда ты прыгал через кочку, твое ружье разрядилось?
– Да, так мы рассказали прислуге, и мама с дядей также не узнают ничего другого. Но перед тобой мне нечего скрывать. Я дрался на дуэли с одним из приглашенных на охоту гостей, бароном Занденом.
– С Занденом? – насторожился Освальд. – Что же произошло между вами?
– Он позволил себе оскорбительное выражение в мой адрес, Я потребовал у него объяснений; слово за слово разгорелся спор, и в конце концов мы решили наутро свести наши счеты. Как видишь, обошлось довольно благополучно. Мне придется самое большее с неделю носить руку на повязке, а Занден отделался такой же царапиной на плече.
– Значит, из-за этого ты оставался там лишнюю ночь?! Почему же ты не вызвал Меня нарочным?
– Как секунданта? Это было лишнее, эту услугу мне оказал наш хозяин, а в качестве огорченного родственника ты все равно явился бы слишком поздно.
– Эдмунд, не говори так легкомысленно о серьезных вещах! – с недовольством промолвил Освальд. – Во время любой дуэли на карту приходится ставить жизнь.
– Боже мой! По-твоему, мне надо было бы сначала составить завещание, торжественно вызвать тебя для прощания и оставить трогательное «прости» Гедвиге. К таким вещам следует относиться как можно проще и полагаться на свое счастье.
– Как видно, слова противника были для тебя далеко не так безразличны. Чем он, собственно, так оскорбил тебя?
– Речь зашла о старом процессе из-за Дорнау. Меня дразнили тем, что я проникся практической идеей закончить процесс свадьбой. Я беспечно ответил на эту шутку. Тут Занден произнес такую фразу: «Так как Дорнау переходит к Эттерсбергу, то все предыдущие старания в этом отношении были совершенно напрасны».
– Ты ведь знаешь, что твоя невеста отказала барону, – пожимая плечами, сказал Освальд, – Естественно, что при каждом удобном и неудобном случае он готов уколоть тебя.
– Да, но его фраза была направлена против моей матери, – проворчал Эдмунд. – Ведь ни для кого не тайна, что она решительно восстала против брака своей двоюродной сестры с Рюстовым и всегда была на стороне разгневанного отца. Она очень высокого мнения о своем происхождении и своих сословных правах и считала своей обязанностью со всей энергией вступаться за них. Именно поэтому я так высоко ценю жертву, которую она приносит мне. Но свои слова барон Занден произнес так, будто завещание было внушено дяде Францу из корыстных целей, чтобы Дорнау досталось мне. Неужели я должен терпеть это?
– Ты заходишь слишком далеко. Не думаю, чтобы Занден думал именно так.
– Все равно, я понял это именно так. Почему же он не отрицал, когда я потребовал у него объяснения? Может быть, я и погорячился, но в этом отношении я очень щепетилен. Ты часто упрекаешь меня в легкомыслии, но есть границы, за которые оно не переходит, и тогда я смотрю на вещи серьезнее, чем ты.
– Я знаю это, – медленно сказал Освальд. – В двух случаях ты можешь чувствовать глубоко и серьезно: когда затрагиваются твое чувство чести и твоя мать!
– И они составляют одно целое! – почти грозно воскликнул Эдмунд, – и кто оскорбит их хоть тенью подозрения, тот будет иметь дело со мной!
Он вскочил и гордо выпрямился. Обычно веселое и беспечное выражение его лица сменилось глубокой серьезностью, а глаза горели страстным волнением.
Освальд замолчал; встав около письменного стола, он приготовился отбросить бумаги и вынуть портрет, но, услышав последние слова графа, невольно остановился. Почему в этот момент должен был состояться именно такой разговор?
– Я никогда не подозревал, что это завещание могло дать повод к такому толкованию, – снова начал Эдмунд, – В противном случае уже тогда, когда умер дядя, я отказался бы от наследства и никогда не допустил бы процесса. Если бы Гедвига осталась мне чужой и судьба присудила мне Дорнау, мне кажется, клеветники не побоялись бы сделать меня пособником обмана.
– Можно быть и жертвой обмана, – глухо проговорил Освальд.
– Жертвой? – повторил граф, быстро оборачиваясь к брату. – Что ты хочешь этим сказать?
Рука Освальда лежала на бумагах, скрывавших роковой медальон, но он холодно ответил:
– Ничего! Я не думал сейчас о Дорнау. Нам ведь известно лучше чем кому бы то ни было, что дядя Франц действовал по своей воле. Но завещание составлено в твою пользу, в ущерб дочери; в таких случаях есть место клевете, и она толкует о постороннем влиянии. В данной ситуации, что вполне естественно, могли подумать, что мать требовала всего в интересах сына.
– Тогда это было бы мошенничеством, – снова вспыхнул Эдмунд. – Я не понимаю тебя, Освальд. Как ты можешь с таким равнодушием говорить о таком позоре? Или как ты это назовешь, когда законного наследника отстраняют, а его место занимает другой, ему достается все имущество? Я называю это обманом, поступком бесчестным, и одна мысль о том, что нечто подобное можно связать с именем Эттерсбергов, заставляет закипать во мне кровь.
Рука Освальда медленно скользнула по столу, и он отошел в угол комнаты, куда не падал свет лампы.
– Подобное подозрение к тебе было бы жестокой несправедливостью, – сказал он с ударением. – Но свет всегда судит зло; правда, ему часто приходится делать неприятные открытия. Как раз в нашем кругу подчас разыгрываются темные семейные драмы, долгие годы скрывающиеся от всех. Но вдруг по воле случая они становятся известны, и кто-нибудь, занимающий блестящее положение, таит в себе сознание вины, которая, если бы открылась, уничтожила бы его.
– Ну, я не был бы способен на это, – ответил граф, поворачивая к брату свое прекрасное открытое лицо. – Я должен смотреть на свет и на себя честными глазами, должен свободно дышать и иметь возможность презирать всякое преступление, всякий обман, иначе для меня нет больше жизни. Темные семейные драмы! Конечно, их бывает больше, чем полагают, но я не потерпел бы такой тени на моем роде и сам вывел бы все на чистую воду.
– А если бы ты вынужден был молчать ради семейной чести?