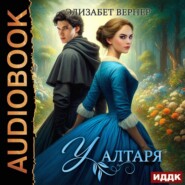По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Высшая точка зрения
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Квартира профессора Гервига в Шледорфе отличалась большой простотой. Да в таком маленьком местечке и нельзя было ожидать ничего другого и приходилось обходиться без многих привычных удобств. Но домик был чистенький и приветливый, и из него открывался чудный вид на горы. Небольшой садик отделял его от соседнего дома, где поселился профессор Норманн; само собой разумеется, при таком близком соседстве Гервиг и Норманн виделись постоянно.
В большой комнате на первом этаже, где помещался Гервиг, сидели оба профессора и так углубились в свою беседу, что не замечали ни великолепного солнечного заката, ни пения, доносившегося в открытое окно. В беседке сидела Дора и старалась выучить Фриделя некоторым песням. Он оказался способным учеником и повторял слабым, но верным голоском мелодию, которую очень быстро уловил.
– Как я вам уже говорил, – закончил Гервиг свою длинную речь, – профессор Вальтен переходит весной в Вену. Я знаю из самых достоверных источников, что вас очень хотели бы привлечь в наш университет; однако вы до сих пор отказывались и не хотели связывать себя.
– Да, до сих пор, – повторил Норманн с некоторым смущением.
Однако Гервиг совершенно не заметил последнего и горячо продолжал:
– Надеюсь, что мне, наконец, удалось переубедить вас. Нам необходимо иметь молодую силу, когда Вальтен уйдет, потому что… Это пение, вероятно, беспокоит вас? Дора, право, могла бы найти другое место! Мы закроем окно.
Гервиг сделал движение к окну, так как заметил, что Норманн вместо того, чтобы слушать его, все время смотрит туда. Однако тот стрелой подлетел к окну и заслонил его.
– Нет, зачем же? Мне вовсе не мешает это пение… а в комнате немного жарко.
– Ну, как хотите, – ответил Гервиг. – Что же касается нашего Гейдельберга, то академические условия вам достаточно известны, круг общества очень симпатичный, а красивое местоположение города тоже имеет свое значение.
– Я никогда не бываю в обществе, – заявил Норманн с обычной резкостью, – а местоположение не имеет для меня никакого значения. Вы ведь знаете, что я не умею восторгаться ландшафтами.
– Да, я знаю и уже отказался от мысли исправить вас. Но, Дора, что это значит? Послушайте-ка!.. Эта озорница, вероятно, слышала ваши последние слова и теперь потешается над вами.
Действительно, Дора оборвала посередине начатую песнь и вдруг начала другую. Ко второму куплету примкнул голосок Фриделя. Он звучал сначала робко и неуверенно, но вскоре освоился с мелодией, и третий куплет пошел совсем хорошо.
– Да, ваша дочь, кажется, усиленно старается подшутить надо мной при каждом удобном случае, – сердитым тоном произнес Норманн. – Она совсем отняла от меня Фриделя и считает его своею собственностью, я его вовсе не вижу! А теперь еще она учит его петь… нет, именно потому, что знает, что я этого терпеть не могу. Но, сохрани его Бог, если он осмелится запеть у меня дома.
Однако, несмотря на все свое негодование, Норманн продолжал стоять у окна, видимо желая хорошенько насладиться доставленной ему неприятностью. Гедвиг немного смутился, так как эта жалоба действительно имела основание. Дора решительно объявила войну его коллеге и не желала выказывать следуемое ему почтение. Никакие наставления отца не помогали. Теперь он также пожал плечами.
– Вы должны быть снисходительным к ее шалостям. Допускаю, что моя дочь немного избалована, – она рано лишилась матери и прекрасно знает, что занимает первое место в сердце и доме отца, где играет роль хозяйки. В обществе ее еще более балуют, студенты усиленно ухаживают за нею, равно как и молодые доценты, притом многие с серьезными намерениями. Поневоле такая девочка и воображает, что может играть с целым светом, забывая иногда о том уважении, с которым она должна относиться к человеку с вашим положением и в ваших годах.
Однако это извинение не произвело желаемого действия; Норманн сделал такую гримасу, как будто ему дали попробовать чего-нибудь очень горького.
– В мои годы? – протяжно повторил он. – Сколько же мне лет, по-вашему?
– Я думаю, лет сорок с хвостиком.
– Простите, мне всего тридцать девять!
– Ну, не обижайтесь, пожалуйста, но, право, вы кажетесь старше…
Тут разговор был прерван вошедшей хозяйкой; она сказала, что пришел извозчик, который должен завтра отвезти на станцию железной дороги господина Гервига и хочет поговорить относительно времени отъезда и багажа.
– Мне придется самому поговорить с этим человеком, – произнес Гервиг вставая. – Ведь мы еще увидимся перед отъездом, коллега? Вы, вероятно, будете довольны, что наконец избавитесь от такого беспокойного соседства?
Коллега оказался настолько невежливым, что даже не возражал, хотя у него был вид не особенно довольный, даже наоборот, – Норманн казался не в духе, когда встал и также вышел из комнаты.
В саду в беседке сидела Дора и разбирала эскизы и рисунки, которые появились на свет Божий в Шледорфе, и которые она намеревалась теперь уложить. Это были ландшафты и головки, нарисованные акварелью; все эти работы не доказывали особенно выдающегося художественного дарования, но все же в них проявлялся свежий, юный талант.
Фридель складывал отдельные листы в папку, причем чуть не пожирал их взорами. У него на лбу виднелся еще большой белый рубец, но, в общем, мальчик за этот месяц заметно изменился. У него был гораздо более свежий вид и на щеках вместо прежней бледности появился легкий румянец. Темные круги вокруг глаз исчезли, точно так же, как робость и приниженность всего его существа. На нем было не прежнее поношенное платье, а совершенно новенький костюм и тирольская шляпа.
Дора и Фридель оживленно болтали, но появление Норманна, налетевшего, как гроза в ясный день, нарушило все мирное настроение.
– Разве ты забыл, что уже семь часов? – обрушился он на мальчика. – Тебе нужно пить молоко. Благодаря настойчивым приставаниям доктора я взял тебя в горы, чтобы ты приобрел человеческий вид, а ты сидишь себе и разглядываешь картинки, вместо того чтобы пить молоко! А потом, конечно, вернешься домой прежней дохлятиной! Изволь немедленно идти в коровник!
Дора слушала с изумлением и вдруг воскликнула:
– Помилуйте, профессор, да ведь это очень смахивает на глупую «любовь к ближнему», которую вы так осуждали! Иди себе, Фридель, я справлюсь одна. Вот возьми мою шляпу и отнеси домой.
Мальчик бросил печальный взгляд на рисунки, которые ему страстно хотелось посмотреть еще раз, но послушно взял шляпу – это была та войлочная шляпа с голубым вуалем, которую Дора всегда надевала при прогулках в горы – и убежал. Дора посмотрела ему вслед и затем обратилась к профессору:
– Вы не находите, что Фридель удивительно поправился за этот месяц?
– Я не нахожу здесь ничего удивительного – с ним возились и нянчились, как с принцем. Да еще пришлось купить ему новый костюм, который стоит уйму денег!
– Но он так идет мальчику. Впрочем, я только очень скромно просила о новой курточке, а вы сами купили весь костюм, да еще из такой дорогой материи…
– Потому что мне совестно, что мальчишка в своих лохмотьях целый день бегает с нами. Вы его повсюду берете с собой и никуда без него не ходите; при этом самое большое, что он несет, так это вашу папку с рисунками, потому что он, упаси Боже, не должен утомляться. Мне приходится самому таскать свои вещи. Да меня вообще больше ни о чем не спрашивают, меня прямо тиранят!
– Фридель чувствует себя при этом прекрасно, – спокойно ответила Дора, – да и вы тоже, господин профессор!
– Простите, я чувствую себя очень скверно, потому что мальчишку мне вконец избаловали. Я так хорошо выдрессировал его. Он раньше не смел и рот разинуть у меня в комнате, а теперь так и трещит, даже начинает возражать! На каждом шагу мне приходится слышать: «Барышня Дора этого не любит! Барышня Дора хочет, чтобы это было так!» – и конечно он делает так, как угодно барышне, и не обращает никакого внимания на мои приказания.
– Так зачем же вы допускаете все это? – спросила Дора. – На вашем месте я ни за что не стала бы так поступать, – с этими словами она сняла со скамейки свой зонтик и поставила его к стене.
– Зачем я это допускаю? – с глубочайшим негодованием повторил Норманн, поспешно занимая освободившееся место на скамейке. – Да потому что вам нет никакого дела до моих возражений!
– Нет, я ни в коем случае не допущу, чтобы Фриделя снова обратили в машину. Что же вы думаете делать с ним, когда вернетесь домой?
– Он будет чистить мне сапоги! – со злобным удовлетворением заявил профессор. – Или, может быть, вы думаете, что я буду так же нянчиться с ним, как вы? Доктор сказал мне, что чахотки у него нет, а только худосочие. Ему нужны воздух, движение и хорошее питание. Все это теперь у него есть и если он поправится, тем лучше для него! Но тогда этой барской жизни настанет конец, и он снова будет чистить мне сапоги… с утра и до вечера!
– Неужели же у вас такое бесконечное количество сапог? – воскликнула молодая девушка, заливаясь звонким смехом.
Это окончательно вывело профессора из себя, и он гневно сказал:
– Не смейтесь, пожалуйста! Настоятельно прошу не насмехаться надо мной…
– Профессором Юлиусом Норманном, светочем науки, у которого столько сапог, что их нужно чистить с утра и до вечера, – добавила Дора, причем так смеялась, что у нее на глазах выступили слезы. – Это было бы не по силам Фриделю, да кроме того, я хотела сделать вам другое предложение.
– Может быть, мальчик должен сделаться оперным певцом? – язвительно спросил Норманн, – или, может быть, я должен поместить его в гимназию, чтобы он тоже стал светочем науки?
– Не совсем, но вроде этого. Взгляните-ка на это; это – первое произведение искусства Фриделя!
Дора вынула из папки отдельный листок и подала его профессору. Тот взял его с большим недоверием, но не успел бросить взгляд на лист, как пришел в ужасную ярость.
– Проклятый мальчишка! Так вот какова благодарность! Он изображает меня вороньим пугалом! Ну, пусть только он попадется мне под руку!
При этом взрыве ярости губы молодой девушки предательски задергались, однако на этот раз она постаралась остаться серьезной.
– А, вы, значит, узнали портрет?