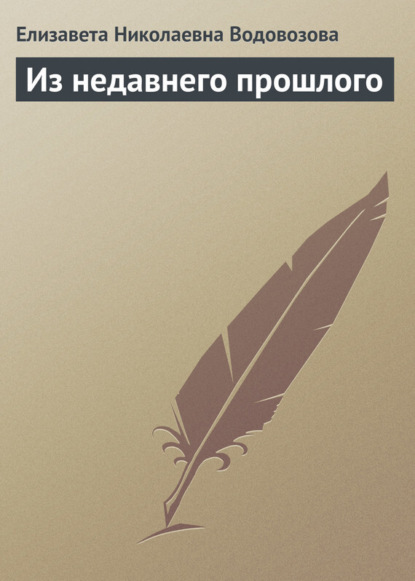По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из недавнего прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я знал вашего покойного мужа. Как же, как же… Я прекрасно знал Василия Ивановича. Мне нередко приходилось беседовать с ним еще в ту пору, когда я был попечителем Петербургского учебного округа. Очень рад с вами познакомиться. Но скажите, пожалуйста, зачем это вы три тома написали о жизни еврейских народов?
– Я не писала, ваше сиятельство, о жизни еврейских народов: три тома моего труда носят название «Жизнь европейских народов».
Он взял со стола лист, написанный мною, и бегло взглянул на него.
– Ну да… ну да… я знаю, вы написали «Жизнь европейских народов», но ведь у вас тоже есть и труд «Жизнь еврейских народов», – настаивал он, видимо желая как-нибудь вывернуться.
Мне пришлось повторить сказанное.
– Я знаю, у вас много книг… В качестве министра просвещения мне приходится знакомиться с огромным количеством выходящих изданий.
Весь этот разговор шел стоя, но тут министр указал мне на кресло, приглашая сесть, и, сам усаживаясь к столу против меня, подвигая ко мне коробку с папиросами, спросил:
– Вы курите?
Получив отрицательный ответ, он продолжал:
– А то, пожалуйста, не стесняйтесь! Не в моем характере стеснять кого бы то ни было. Я человек простой. Ко мне каждый может прийти: и богатый, и бедный, и человек, занимающий высокое положение, и совершенно простой. Для меня решительно все равны. Каждый может изложить мне свои желания, – я всех выслушиваю с одинаковым вниманием.
– Это и дало мне смелость явиться к вашему сиятельству.
Делянов действительно держал себя совершенно просто: ни в тоне речи, ни в его манерах не было ничего начальственного, никакой напускной важности или искусственности. Вот эта-то простота обращения и дала мне возможность разговаривать с ним без малейшего стеснения. В то время ему, по виду, было за шестьдесят лет. В его внешности меня поразило только необыкновенно круглая форма его головы.
– Вы получаете пенсию после смерти вашего мужа?
Я отвечала, что пенсии не получаю, так как мой покойный муж прослужил в гимназии лишь двадцать один год, но что я пришла к нему совсем по другому делу.
– Ввиду заслуг Василия Ивановича на пользу просвещения, что вполне признано министерством народного просвещения, вы смело могли бы хлопотать о получении пенсии или, по крайней мере, полупенсии. Что же касается затруднений вследствие упущения времени и других препятствий, я счел бы своею обязанностью посодействовать вам, насколько это для меня возможно.
– От всей души благодарю, ваше сиятельство, но не об этом я пришла вас просить.
– Как, вы отказываетесь от пенсии? Следовательно, вы имеете хорошие материальные средства?
– Я решительно не имею никаких средств и живу исключительно литературным трудом.
– Странно! Очень странно! Как-то не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь упускал случай получать пенсию, когда для этого есть какая-нибудь возможность. Чем же я тогда могу быть вам полезным?
Я вкратце рассказала ему о ссылке моего сына и просила его дозволить ему приехать в Петербург держать государственные экзамены.
– О чем вы могли бы просить и относительно чего я предлагаю вам мои услуги, вы категорически уклоняетесь… Как же вы, сударыня, не принимаете в расчет, что я как министр просвещения обязан беречь молодое поколение от нравственной порчи, от политической заразы? Исполнив вашу просьбу, я допущу политического преступника в общество студентов, в аудиторию с остальными… Он опять начнет развращать молодежь, как и прежде.
На мой вопрос, каким образом мой сын развращал студентов, Делянов настойчиво отвечал:
– Да-с, развращал, это мне доподлинно известно! Университетское начальство и профессора прямо говорили мне об этом. Ведь за это-то его и сослали.
Я возражала, что он выслан за перевод Туна и за примечания к нему.
– Очень возможно, что это было уже последнею каплею. Но он развращал студентов своими речами и разглагольствованиями в «Научно-литературном обществе», вся научность которого заключалась в том, чтобы вести противоправительственную пропаганду. Речи, рефераты молодых людей в этом обществе носили характер исключительно недозволенной пропаганды, дерзкой и крайне вредной.
– Насколько мне известно, на собраниях этого общества обыкновенно присутствовал кто-нибудь из профессоров.
– Что же из этого? Немало оказалось и таких профессоров, которые даже с кафедры вели революционную пропаганду. Вот, например, господин С‹емевский›: он считается историком, а миропонимание этого ученого чисто революционное, сплошное осуждение правительства, даже в прошлом. С его точки зрения, основа нашей исторической жизни никуда не годна: наши финансы, экономическое положение народа – все это было отчаянное, неправда царила всюду, жестокости происходили такие, каких в то время нигде не бывало. И вот, изволите ли видеть, несмотря на то что в нашем прошлом ничего не было, кроме ужаса и мрака, Россия, слава богу, живет, и не только живет, но во всем мире считается могущественнейшею державою. Нет-с… таких вредных господ я не допущу на кафедру. Пускай пишет что угодно, это не мое дело. А вы, сударыня, сознайтесь чистосердечно, так же чистосердечно, как я с вами беседую, что вы решились вырвать у меня дозволение для вашего сына держать государственные экзамены с целью, чтобы затем потихоньку да полегоньку вытащить его на кафедру?
– Вполне чистосердечно сознаюсь вам, ваше сиятельство, что я никогда не читала и не слыхала, чтобы какая-нибудь мать могла втащить своего сына на кафедру. Может быть, это возможно при могущественных связях. Я же не имею никакой протекции, и даже к вам явилась по простому указанию в газетах о времени вашего приема.
– Для того чтоб явиться ко мне, никому не нужно запасаться ни протекциями, ни рекомендациями: и бедным, и богатым, и знатным, и простым смертным – для всех широко открыта моя дверь.
– Вы только что сказали, ваше сиятельство, что заслуги моего покойного мужа признаны министерством просвещения и дают ему право на получение если не пенсии, то полупенсии. Я вместо этого прошу лишь об одном – дозволить моему сыну держать экзамены. Только об этом прошу, и больше ни о чем я не посмею утруждать вас.
– Ах, нет, нет! – заговорил министр даже с каким-то испугом, точно я прижимала его к стене. – Это даже очень нехорошо с вашей стороны, что вы так настаиваете на одном и том же! Это просто какое-то нравственное насилие! Поймите же: я не могу отказаться от своих взглядов на политических преступников. Мне из-за этого могут даже сделать запрос, почему я начинаю мирволить таким господам, как революционеры, которых я всегда считал величайшими врагами государства.
– Но ведь мой сын пострадал только за перевод сочинения немецкого профессора Туна. Ваше сиятельство, прошу вас, исполните мою просьбу.
– Нет, пожалуйста, прекратите этот разговор. Вы так настоятельно… так горячо об этом просите, что меня это даже волнует. – Он опять произносил это как-то по-детски, жалобно и точно испуганно. – Но я желаю от души быть вам полезным, а потому прошу вас, объясните мне чистосердечно причину, почему вы отказываетесь от пенсии.
Я отвечала, что могу изложить все дело вполне откровенно, но ввиду его посетителей очень боюсь его задерживать. К тому же я человек не светский, не сумею облечь в надлежащую форму то, что я желаю сказать, не сумею найти те обороты речи, в каких я только и могла бы все изложить ему как министру.
– Насчет посетителей это уже моя забота. Повторяю, я всегда доступен для каждого: для меня несть эллин, несть иудей. Что же касается выражений, которых вы боитесь не найти в вашем лексиконе, чтобы достаточно почтить меня как министра просвещения, то я враг официального чинопочитания. Да и вы, сударыня, не чиновник, числящийся на службе по моему ведомству.
И я правдиво и откровенно изложила ему следующее: когда разразилось дело Каракозова, у нас в доме не было никакого обыска, не призывали и моего покойного мужа к какому бы то ни было допросу или объяснению. Это было вполне естественно: он ни в каракозовском и ни в каком другом политическом деле не участвовал. А потому, когда весною кончились уроки в гимназии, он совершенно покойно уехал с семьею в деревню. Возвратился он в Петербург в половине августа, накануне начала своих занятий. На другой день он отправляется в гимназию на урок и вдруг узнает от швейцара, что его место занято другим учителем, который сегодня в первый раз только что явился на урок. Не веря своим ушам, Василий Иванович бросается к директору гимназии. Тот заявляет ему, что из министерства просвещения очень недавно получено официальное извещение о том, что В. И. Водовозов увольняется от занимаемой им должности в гимназии без объяснения причин. При этом директор добавил, что до получения этого заявления у него о Василии Ивановиче решительно никто ничего не спрашивал, никто не собирал о нем никаких сведений. Он, директор, сам поражен этим инцидентом и рассчитывал выяснить причину этого загадочного увольнения из личных объяснений Василия Ивановича.
Выгнанный без всякой причины и так неожиданно и бесцеремонно из гимназии, мой покойный муж прямо от директора гимназии отправился в пиротехническое и аудиторское училища, рассчитывая, что хотя в этих двух учреждениях у него сохранились еще занятия. Но и из этих двух заведений он тоже оказался уволенным без объяснения причин. Итак, моего покойного мужа уволили в 1866 году из всех заведений, где он преподавал, уволили без всякого предупреждения, как не увольняют даже кухарку в порядочном доме. Таким образом, вся моя семья буквально была вышвырнута на улицу без куска хлеба. Но это еще далеко не все: когда через два-три года после этого то одно, то другое частное заведение предлагали ему учительское место, он предупреждал, что уволен из казенных заведений, но его уговаривали согласиться, взяв на себя хлопоты о разрешении. Однако ему не разрешали преподавания и в частных заведениях. А принц Ольденбургский, узнав, что начальница одной из частных гимназий предложила Василию Ивановичу место учителя литературы, сказал ей: «Как могли вы даже подумать о том, чтобы пригласить к себе такую политически скомпрометированную личность? Водовозов – Каракозов; обе фамилии недаром рифмуют друг с другом!»
В это время я тоже не могла помочь ничем моей семье. За полгода перед этим Александр Карлович Пфель[2 - Чиновник особых поручений при Четвертом отделении собственной его величества канцелярии, который через два года после этого получил звание почетного опекуна и управляющего Московским воспитательным домом с его округами, Николаевским сиротским институтом и др. (Примеч. Е. Н. Водовововой.)], по желанию одной высокопоставленной особы, решил устроить новый класс с программою женской гимназии, в который допускались бы лучшие ученицы различных училищ и женских приютов. Преподавательские места в этом вновь открывающемся учреждении могли, между прочим, занимать и женщины, выдержавшие экзамены на младшего учителя гимназии. Вместе с тремя другими женщинами я была допущена к экзаменам, выдержала их, была принята преподавательницею и должна была начать уроки со второй половины августа. В назначенное время я явилась на уроки, но Пфель заявил мне, что учреждение этого нового класса затягивается[3 - В конце концов это учреждение не устроилось. (Примеч. Е. Н. Вооовозовой.)], но, во всяком случае, я не была утверждена в качестве преподавательницы и мне не дозволяется преподавание потому, что в 1861 году, во время студенческих волнений, я произнесла речь студентам, для чего будто бы даже взобралась на дрова. Я немедленно представила мой институтский аттестат, из которого видно было, что я окончила курс в Смольном институте лишь в 1862 году, то есть через шесть месяцев после означенного события, следовательно, в то время, когда меня обвиняли в произнесении речи, я безотлучно находилась в четырех стенах закрытого учебного заведения. Но это не помогло. Видимо, уже решено было наперед во что бы то ни стало измором извести мою семью. Как же мне после этого принять пенсию от министерства просвещения, которое так беспощадно губило жизнь моей семьи? Я не только не думала в настоящее время о пенсии, но даже немедленно после смерти моего покойного мужа, когда одно лицо предложило мне хлопотать об этом, я наотрез отказалась. Мне казалось, что, если бы я поступила иначе, кости моего покойного мужа перевернулись бы в гробу.
И вдруг я тут только спохватилась и сообразила, что совсем не так должна была излагать это дело министру, который, насупившись, сидел молча, не проронив ни слова во время моего рассказа.
– Я терпеливо выслушал вас, но не как министр народного просвещения, а как частное лицо. Прошу вас помнить об этом, сударыня. Вот что я замечу относительно вашего длинного повествования о всех жестоких преследованиях и несправедливостях к вам правительства. Конечно, ошибки везде возможны, но, простите, сударыня, – не относительно покойника. А между тем вы говорите об его увольнении с такою злобою и раздражением даже теперь… Вы стараетесь указать, как на величайшую несправедливость, на то, что Василия Ивановича уволили из гимназии без объяснения причин, и вы, видимо, не допускаете даже мысли, что власти имели полное моральное право так поступить. Не я был тогда министром просвещения, но, будучи лично знаком с Василием Ивановичем, я интересовался им и прекрасно знаю, что он во время всей своей преподавательской деятельности то и дело выступал на педагогических учительских совещаниях с различными своими протестами против общего решения своих же товарищей-учителей, особенно когда дело шло об исключении какого-нибудь негодного ученика.
– Это действительно случалось, но он протестовал лишь тогда, когда увольняли лучших учеников за какую-нибудь шалость или за ничтожный проступок. Совесть не позволяла ему присоединяться к мнению товарищей, которые с легким сердцем портили жизнь тому или другому юноше.
– Я уважал покойного Василия Ивановича, но, простите, сударыня, не думаю, чтобы, кроме него, все остальные учителя были люди бессовестные. Вы изволили сказать, что он протестовал тогда, когда учеников увольняли за простые шалости и ничтожные проступки. А я до сих пор вспоминаю случай, когда Василий Иванович остался при особом мнении даже тогда, когда проступок одного гимназиста возмутил всех порядочных людей и когда все требовали строгой кары провинившемуся. Я говорю про гимназиста, который пустился отплясывать вприсядку перед своим священнослужителем, перед своим законоучителем.
– Это было не совсем так, ваше сиятельство: священник опоздал на урок, ученики думали, что он уже не придет, и один из них действительно начал плясать, но как только заметил входящего священника, сейчас побежал на свое место.
– Танцы и пляска не запрещены, но не в классе. Неуместны они особенно перед уроком закона божий, когда ум ученика должен быть направлен на соображения высшего характера. Негодный мальчишка устроил эту дерзость, чтобы похвастать перед товарищами, показать им, как он пренебрежительно относится к таким предметам, как закон божий, и к таким преподавателям, как его законоучитель. А Василий Иванович одобрял и такие поступки учеников и находил, что удаление из заведения и самых безнравственных мальчишек – преступление. Вот, сударыня, подобные-то протесты против общего решения товарищей-учителей и заставили смотреть начальство на Василия Ивановича как на человека беспокойного и неблагонадежного. Именно неблагонадежного: это слово прекрасно определяет поведение человека. Кроме протестов, несомненно, за покойником числились и другие немалые прегрешения, но подымать всю эту историю при его увольнении, выяснять все это, как вы желаете, немыслимо. Что Василий Иванович был человеком действительно неблагонадежным и что этот эпитет вполне к нему подходил, он вполне доказал, когда у нас введен был классицизм, который благополучно господствует и в других культурных государствах Запада и всеми признается полезным при образовании юношества. Но Василий Иванович, конечно, оказался этим недоволен и всюду разносил правительство, всюду кричал о смертоносности классицизма, писал об этом, читал рефераты. С вашей стороны, сударыня, неблагоразумно возмущаться тем, что его уволили, и уволили без объяснения причин. Нечего удивляться, сударыня, и тому, что его сын оказался революционером. Исполнить вашу просьбу – не могу: я не потатчик юношам такого сорта. К сожалению, к сердечному моему сожалению, решительно ничего не могу сделать для вас.
Я медленно спускалась по лестнице, утратив всякую надежду, сознавая, что мои дальнейшие шаги в этом направлении совершенно бесполезны.
– Вот, ваше превосходительство, какой продолжительной беседы вы удостоились! Его сиятельство умеет отличать достойных людей! Почти целый час имели счастье провести с его сиятельством с глазу на глаз! – говорил швейцар, указывая мне на часы и подавая пальто. Вдруг с верхней площадки меня окликнул мой «благожелатель».
– Как же ваше дело? В чем оно заключается? Исполнил ли министр вашу просьбу? – торопливо спрашивал он меня, когда я опять поднялась на лестницу. При этом он чуть приоткрыл дверь передней, высунув голову и таким образом разговаривал со мною. В нескольких словах я сообщила ему, о чем просила министра и о результате моего ходатайства.
– Сдается мне, что этого очень трудно добиться! Но вы все-таки еще попытайтесь: напишите прошение как можно убедительнее. Только не упоминайте в нем о том, что он вам отказал. Принесите прошение сюда, сегодня же в девять часов и легонько постучите в эту дверь. «Его» не будет в это время, и я немедленно выйду к вам. Завтра утром все прошения я должен отнести господину Эзову, который читает их, делает доклад о них министру и при этом может замолвить за вас словечко. Вы сами к нему отправляйтесь завтра же в его приемные часы. Господин Эзов – человек очень обходительный.
Я с точностью исполнила эти советы и в назначенный час передала моему «благожелателю» прошение, предварительно положив на него, уже без всякого страха, скромную мзду.
Когда я на другой день вошла в приемную Эзова, его немногочисленные посетители уже расходились, и он пригласил меня в свой кабинет. Это был человек очень небольшого роста, худощавый до истощения, с печатью тяжкого недуга во всех чертах чрезвычайно симпатичного и интеллигентного лица. Он сказал мне, что уже успел прочитать мое прошение, вполне сочувствует матерям, стремящимся, чтобы их сыновья кончали университетский курс, что он в таком духе и будет говорить с министром. Но ввиду того что министр при личном свидании со мной так категорически отклонил мою просьбу, он, Эзов, очень сомневается в успехе. Но это не помешало ему подробно расспросить меня о высылке сына, о моем разговоре с министром, о моих занятиях, о моих изданиях.