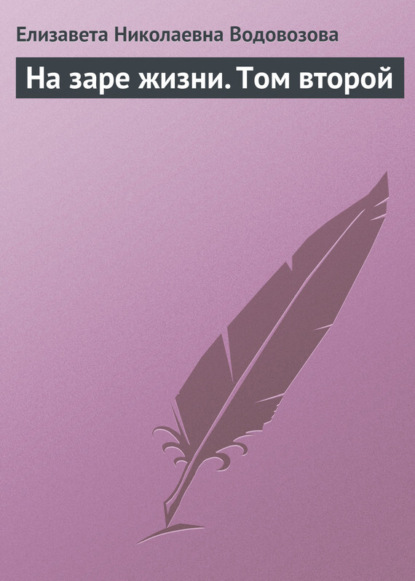По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На заре жизни. Том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Полно вам, Кондратенко, вздор городить, – возражал ему медик Прохоров, молодой человек лет двадцати трех, брюнет, с черными глазами и весьма решительным видом. – Ведь только тот, у кого нет никакой энергии, никакой инициативы, никакого чувства собственного достоинства, никакого сознания того, что наступили новые времена, когда каждый обязан ворочать собственными мозгами, не может взять себя в руки, – одним словом, только жалкому сопляку приходится теперь ходить на помочах какого-нибудь директора департамента, тухнуть в канцелярии и заниматься никому не нужным бумагомаранием.
– И я нахожу, что при ваших способностях и при вашем образовании просто преступно идти по старой дорожке, проторенной нашими тятеньками. Я, как и ваш земляк, тоже был лучшего о вас мнения.
– Молодое поколение обязано отыскивать новые пути, соответствующие новым современным требованиям! – кричали ему на разные лады.
– Очень возможно, что это только минутная слабость! Ведь иному трудно сразу сбросить с себя ветхого человека.
– Теперь, Кондратенко, нужно крепко держать себя в руках. Чтобы жить и бороться в настоящее время, нужны люди со стальными нервами, с определенно обоснованными принципами…
– А главное, необходимо прежде всего выяснить, зачем живешь, по какой дороге пойдешь, что будешь преследовать в жизни…
– Может быть, Кондратенко говорит все это с целью узнать, как к этому отнесутся люди нашего круга?.. А возможно, что он делает это с целью открыто заявить нам, что с этих пор он не имеет больше ничего общего с идеалами, дорогими для всех нас? У вас, Кондратенко, может быть, где-нибудь в глубине вашей души есть маленький расчетец на то, что раз вы смело заявляете нам такие ужасные вещи, У нас не хватит храбрости в глаза осудить вас?
– Когда вы окончите обливать меня грязью, когда вы исчерпаете все ваши нравоучения, ругань и низкие подозрения, – я сразу отвечу всем вам. Я вижу, что еще «Смерч» горит нетерпением обличить меня… Хотя это будет перефразировка уже сказанного, но, сделайте одолжение, говорите и вы, – не то с горечью, не то с сарказмом произнес Кондратенко, бледный как полотно.
– Напрасно, Кондратенко, вы вносите сюда столько раздражения. «Ты сердишься, Юпитер, – значит, ты не прав!» Обязанность человека нашего круга – высказывать товарищам все без утайки и фальши… – ораторствовал «Смерч», по-видимому ничуть не задетый саркастическим замечанием по его адресу. – Мы собираемся здесь не для светской болтовни и презираем тех, кто в глаза говорит одно, а за глаза – другое, как это было в обычае у наших родителей, когда у них сходились обжираться кулебяками и разносолами и для пищеварения беседовали с знакомыми! Ваше желание, Кондратенко, сделаться чиновником показывает, что вы игнорируете одно из главнейших требовании молодого поколения – разрывать с прошлого жизнью, с ее обычаями и укладом, с понятиями наших отцов. Мы, молодая Россия, обязаны повергать во прах старые идолы и разрушать старые храмы, чтобы на их развалинах создавать новую жизнь, и эта новая жизнь ничего не должна иметь общего с жизнью старого поколения. Мы всегда должны твердо идти по новой дороге, брать на себя только такую деятельность, которая приносила бы пользу ближнему, а если ее нельзя найти, – создать новую. Конечно, нам предстоит отчаянная борьба с реакционерами, с предрассудками, с своим собственным страхом перед всем новым даже, как это ни странно, с собственным индифферентизмом к общественной деятельности, что так основательно внедрили в нас наши милые папаши и мамаши… Вы упомянули, Кондратенко, что у вас семья… Я не хочу верить, что вы женились из-за прихоти пошляка мужчины. Вы, конечно, выбрали себе такую жену, с которою можете идти рука об руку в общественном деле. В таком случае ваша жена будет помогать вам создавать новую общественную деятельность…
При последних словах Очковская быстро выдвинулась вперед.
– Позвольте, Ольга Николаевна, – запротестовал Кондратенко, – очередь за мною. Я задержу недолго. Я должен сказать вам, господа, что, к сожалению, ничего не мог почерпнуть для себя полезного из ваших речей… У меня примеры на глазах, как сушит, убивает человека чиновничья карьера, и я делал все, чтобы избежать ее. Изобрести для себя новую деятельность гораздо легче на словах, чем на деле. Если я так думаю вследствие умственной тупости и убожества, умоляю вас, придумайте для меня какую-нибудь деятельность вне государственной службы, и если она даже будет очень скромно обеспечивать существование моей семьи, я вам даю слово никогда не сделаться чиновником…
– Как это неделикатно сваливать свои заботы на чужие плечи!.. – кричали ему на разные лады.
– Можете себе представить, ведь Кондратенко уже ушел… – заявил кто-то через несколько минут.
– Ну и черт с ним! – раздалось в толпе.
– Вы знаете его адрес? – спрашивал Слепцов у какой-то дамы и под ее диктовку записывал его в свою книжку.
– Где нужда, там и Василий Алексеевич! – зашептала Таня, наклоняясь ко мне. – Вот попомни мое слово: он завтра же обегает весь город и что-нибудь добудет для Кондратенка… Это самый великодушный, самый чудный из всех наших знакомых.
В это время Веруся, обращаясь к своим гостям, говорила чрезвычайно взволнованно:
– Конечно, вы должны были сказать ему все, чтобы удержать его от чиновничьей карьеры. Но вы говорили с ним как-то безжалостно! Не знаю, как выразиться… как-то совсем нехорошо. Ему самому, видно, все это так тяжело! А у вас не нашлось ни слова участия к нему! Мы должны были сообща помочь ему отыскать новый труд, а если бы это оказалось невозможным, мы обязаны из своих заработков собирать известную сумму и поддерживать его до тех пор, пока он не найдет для себя деятельности, которую мы все могли бы одобрить. А это что же? Руганью и низкими подозрениями выгнать человека из дома! Это ужасно, это просто даже позорно! Если бы вы знали, какие это славные, очень славные люди оба Кондратенко – муж и жена! Мы должны прийти к ним на помощь! Ведь мы же составляем тесный кружок людей единомыслящих, следовательно, должны быть более близки между собой, чем даже родные по крови, – мы родные по духу!.. Это выше, святее и более ответственно, чем родство по крови!
Все как-то притихли, точно пристыженные этими словами. В эту минуту Очковская положила мне руку на плечо, и мы начали прогуливаться с нею. Вдруг из открытой двери маленькой комнаты, заставленной мебелью и шкапами вследствие вечеринки, раздался голос Слепцова:
– Так, пожалуйста, повидайтесь же с ним… ведь директора получают всевозможные запросы из провинции, наконец, он может направить вас к кому-нибудь другому. Имейте в виду, что Кондратенко кончил университетский курс, что он человек с серьезными знаниями, и вашему директору не грех похлопотать за него. Поскорее же известите меня о результате свидания…
– Какое впечатление производит на вас Слепцов? – спросила меня Очковская, когда я вошла с нею в другую комнату.
– Он красив, очень красив… только лицо у него какое-то неподвижное, точно маска…
– Несмотря на его замечательную красоту, меня долги расхолаживала неподвижность его лица, но я начиная убеждаться, что он надевает эту маску умышленно, чтобы скрывать величие своей души.
– Что же вы тут прячетесь, Ольга Николаевна? – заговорил Николай Петрович, подходя к нам. – Я уже заявил публике, что вы хотите поставить на обсуждении кое-какие вопросы. Слышите? Вас зовут!
И действительно, из большой комнаты раздавалися страшный шум, топот ног и крики:
– Очковская, Очковская!
– А я расхотела говорить… – сказала Очковская, не двигаясь с места. – У меня уже улетучилось все, что я собиралась сказать…
– Ручаюсь, вам стоит только рот открыть, и на помощи вам явятся и огонь в крови, и пламень в груди… Да идите же!
– Каждая дама в таком случае всегда любит поломаться!.. – бросил Слепцов, проходя мимо нас.
– Неправда! – с досадой крикнула ему вслед Очковская, и его слова точно пришпорили ее: она быстро вошла в большую комнату. Публика из кожи лезла, чтобы представить настоящий раек театра: кричала, топала ногами, вызывала Очковскую на все лады, а когда та появилась, аплодировала, сколько хватало сил. Ольга Николаевна прижимала руку к сердцу, делала реверансы, раскланивалась по-театральному, но, как только начала говорить, сделалась серьезною, с каждым словом все более увлекаясь.
– Я хочу поговорить насчет последних слов «Смерча». Он и очень многие из вас утверждают, что жену должно прежде всего выбирать для того, чтобы иметь возможность работать вместе с нею для общественной пользы… Следовательно, вы ищете в браке только пользы и выгоды для ближнего, а я нахожу, что вступать в него следует не с утилитарными целями, а только по взаимной страстной любви.
– Ерунда! абсурд! – кричали со всех сторон.
– Оказывается, – с запальчивостью перебила их Очковская, – что вы не понимаете, что такое свобода слова, а еще называете себя «молодою Россиею», «молодым поколением», «носителями прогрессивных начал и идеалов»! Прежде выслушайте, а потом хотя камнями побивайте…
– Вы знаете, – тягуче и с ненужной обстоятельностью заговорила Сычова, – что камнями вас никто не собирается побивать, но после таких слов в порядочном доме вам не протянули бы руки.
– Убирайтесь вы в ваш порядочный дом! – закричала ей Вера во все горло.
– Ведь и пошлость имеет свои границы… – резко возразил Ваховский, в упор глядя на Сычову. Но та не сконфузилась, не тронулась с места и, хотя на нее все поглядывали, кто с гримасою, кто с насмешкою, продолжала брюзжать:
– Смазливая девчонка, вот за нее и готовы каждому горло перервать!..
– Продолжайте же, Ольга Николаевна, а госпожа Сычова в это время приготовит для вас новый камень, но не из особенно смертоносных, – заметил Слепцов.
– Видите ли, – заговорила Очковская, – я все более чувствую, господа, что мои взгляды расходятся с вашими. Мне уже давно стало казаться, что я воровски пользуюсь вашим добрым отношением ко мне. Вот это-то и заставляет меня откровенно раскрыть перед вами мой символ веры. Начну с моего прошлого: до девятнадцати лет я прожила в полном довольстве. Меня обожали родители; хотя они имеют хорошие средства, но богачами их нельзя считать, а между тем они исполняли не только все мои желания, но, с их точки зрения, даже прихоти: выписывали журналы и книги, какие только я просила, позволяли брать уроки у дорогих учителей, хотя находили, что я достаточно всему обучена, так как выучили меня четырем иностранным языкам. Говорю об этом для того, чтобы показать, как они всегда считались с моими желаниями, хотя очень часто не могли сочувствовать им. Дозволили они мне брать уроки и у Николая Петровича Ваховского, когда он появился в нашем городе. Уже ранее, чем я начала занятия с ним, мне стала претить провинциальная жизнь, мое положение сонной царевны в сонном царстве, а тут под влиянием Николая Петровича мне окончательно опостылела такая жизнь, и на этой почве у меня то и дело начали являться размолвки с родителями. Как раз в это время у меня явился жених, богатый, молодой, образованный, даже красивый. Я находила его весьма порядочным человеком, и, если бы я сказала ему: «Будем работать для блага ближнего, устроим школу, больницу», он, несомненно, на все согласился бы, но я не чувствовала к нему страстной любви и отказала ему. Родители были крайне возмущены. Они находили, что У него все, о чем может мечтать девушка: молодость, красота, богатство. Последнее, по их мнению, важно было для меня потому, что почти все их состояние после смерти Должно перейти в руки моих братьев. Как только я отказала блестящему жениху, так отношения с родителями обострились: между нами явилось какое-то взаимное озлобление. Если бы я ограничилась отказом жениху, мои родители, вероятно, со временем примирились бы с этим, но не знаю, что со мною сделалось. Точно кто-то толкал меня говорить им резкости и безжалостные вещи, я точно мстила им за то, что они осмелились желать этого брака. Но все это я сообразила впоследствии, а в то время во всей считала себя правою. Кончилось тем, что я разошлась с родителями и уехала в Петербург. Если бы вы знали, как у меня до сих пор обливается сердце кровью, как мне ни достает их ласки, забот, как я убиваюсь из-за того, что поступила с ними жестоко и несправедливо. Видите ли я и в этом сильно расхожусь с вами. А мои воззрения на брак диаметрально противоположны вашим. Как это ни странно, но ваши взгляды, по крайней мере тех из вас которые говорили со мною об этом, сильно совпадают со взглядами моих родителей, но у вас они, конечно, более общественного характера. Расчет на выгоду как у вас, так и у них, а мне он одинаково противен. Считаю своею обязанностью заявить вам, что в браке я буду руководиться не общественными соображениями, а исключительно моими личными чувствами. Моим мужем будет только тот, кто заставит биться мое сердце от радости и счастья. Вот какая разница между вашими и моими взглядами. Вы заботитесь только о благе ближнего, а я, презренная эгоистка, прежде всего для себя мучительно хочу личного счастья. Должна сознаться, что в этих мечтах я то и дело забываю о ближних… В этом я оправдываю себя в собственных глазах тем, что только любовь, одна любовь может дать женщине настоящее нравственное удовлетворение, делает ее лучше, более доступною великодушию. С моей точки зрения, только брак по страсти может дать женщине настоящую энергию для общественного служения, только он один даст ей возможность приносить истинную пользу ближнему. А когда в браке руководятся не страстью и любовью, а даже возвышенным расчетом, женщина не получит никакого счастья, следовательно, и никакого удовлетворения: понятно, что и ближнему, в таком случае, не будет никакой выгоды… Как антипатичны мне ваши взгляды на брак, так антипатичны мне и ваши взгляды на поэзию. Когда я раздумываю о них, вы представляетесь мне настоящими убийцами и палачами. Да вы и есть настоящие убийцы!.. Вы убиваете все грезы молодости, все лучшие мечты о счастье, всю поэзию жизни! Вы высмеиваете художественные произведения, искусство, а я… я обожаю все, что носит печать поэзии. Так вот какая пропасть лежит между вашими воззрениями и моими! Я все сказала: гоните меня из вашего круга!
Поднялась целая буря: одни кричали одно, другие – другое, многие поднимали руку вверх, показывая этим, что желают говорить, топали ногами, свистели, чтобы заставить себя выслушать, но, кроме отдельных выкриков, все слилось в беспорядочный хаос голосов. Наконец Ваховскому удалось энергично закричать:
– Я буду руководить прениями. Выступайте со своими возражениями в том порядке, в каком вы стоите в настоящую минуту. Господин медик, вам говорить первому…
– Вы, Очковская, сами прекрасно понимаете, что проповедуете культ узкого личного эгоизма. Если бы вы руководились стремлением к общественной пользе, с кой-какими вашими взглядами еще можно было бы помириться, но вы всюду на первом месте ставите удовлетворение личной страсти… И все это вы высказываете с таким пафосом, что можете даже людей, нетвердых в принципах, просто смутить…
– Все ваши страсти и любови, – задорно прокричал другой, – только рутина, старый хлам, который давно пора выбросить за борт!
– Конечно… конечно, – авторитетно подтвердил Прохоров, – художественные произведения, а тем более музыка, живопись, ваяние и вообще все искусство созданы только для богачей, для улучшения их пищеварения.
– Исключительно для барского самоуслаждения!
– И вы думаете, Очковская, что, поставив страсть во главу угла, вы открыли Америку? Ведь и до вас многие руководились такими же африканскими воззрениями.
– Люди, поженившиеся по страсти, драли, как и прочие, своих крепостных и предавались разврату на стороне!
– Дайте же мне, наконец, сказать… Слова прошу, слова… – силился перекричать других один из студентов, не в силах более ожидать своей очереди. – Видите ли, господа, вероятно, многим из вас казалось, что романтизм давно отжил свой век. Но если последовательницею его является такая прогрессивная особа, как Очковская, это означает, что он еще силен. Имейте же в виду, Очковская, что романтизм всегда питал только гнилые иллюзии и тянул русских барышень не к живой общественной деятельности, а к пуховику, вызывал лишь слезы при виде безвременно погибшего воробья.
– Да знавали ли вы, – перебил его другой, – людей поженившихся по страсти, которые не закисли бы, не отупели, не опошлились в этой узкоэгоистической, сентиментальной сфере чувств, которые бы шли вперед по пути прогресса, занимались просвещением, двигали науку вперед, улучшали бы жалкое положение мужика? Нет, тысячи раз нет!
– Смерть диким страстям и заоблачным парениям! – эти и подобные им замечания сыпались без промежутком часто даже двое и трое кричали зараз, и Ваховскому приходилось останавливать то одного, то другого словами: «Дай! те же сказать Иванову». – «Тарасов, – вам говорить».