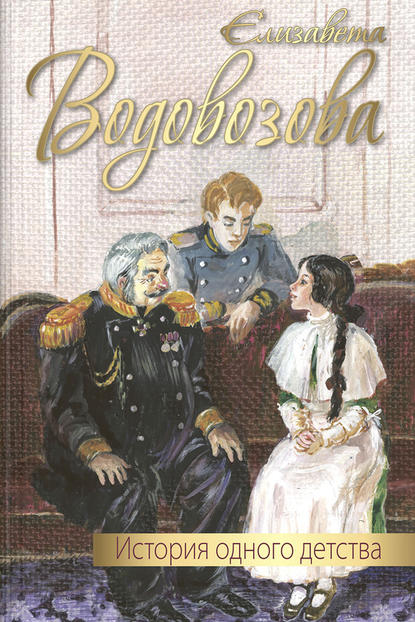По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История одного детства
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот он из-за того-то так и убивается, сердечный.
– Как из-за того?
– Известно, матушка-барыня, из-за этой самой воли. Я вот как рассуждаю: был он крепостной – значит подначальный, и весь предел ему твердо был обозначен: поди дров наколи, марш в кузницу али там мельницу, и так всякий часок… Значит, нечего тебе голову думкою ломать али какой заботой сердце сушить… Ну а теперь на воле, без старшого изволь сам все удумать…
– Ах, няня, – не выдержала матушка, – и неглупый ты человек, а ведь какой вздор городишь! Разве можно сравнить крепостного с свободным человеком?
Но няня оставалась при своем.
Время шло. Минодору заменила другая девушка – Домна. Но никто в доме не любил ее так, как любили кроткую и тихую жену Васьки. Самого же Василия и подавно никто не мог заменить. Матушка часто вспоминала Ваську и не раз сожалела о нем.
Через полгода после отъезда Василия Саша в Витебске получила от него письмо. Он не забыл своей любимой «барышни», утешавшей его в тяжелые минуты, и писал сестре, что живет с женой в Москве: Минодора служит у княгини горничной и получает жалованье, а он играет в оркестре при одном из московских театров.
Прошел год, и Василий снова написал Саше. В этот раз он сообщал, что княгиня уезжает навсегда за границу, а вместе с нею уезжает и он с Минодорой.
Это было последнее письмо от него. Дальнейшая его судьба осталась нам неизвестной.
Глава третья
Помещичьи нравы
МАТУШКИНО ХОЗЯЙСТВО
Хозяйство матушки приходило все в больший порядок. Причиной этому были не только ее неустанные хлопоты, но и заботы няни. Без няни матушке вряд ли удалось бы узнать всю подноготную каждой крестьянской семьи. Несмотря на ее простое отношение к крестьянам, несмотря на то, что она сама нередко заходила в избы, крестьяне все-таки чуждались ее. Совсем иначе относились они к няне: в каждой крестьянской семье она была своим человеком. Няню всегда звали на крестьянские свадьбы, у нее было много крестников среди крестьянских ребят. Няня ходила к больным и носила им лекарства, гостинцы – кусок булки или детскую рубашонку, перешитую из нашего старья.
Крестьяне хорошо знали, что няня бережет барское добро пуще своего глаза, но они все-таки были уверены, что из-за нее не выйдет неприятности, что она первая усердно похлопочет за каждого из них.
– Бедность лютая нас одолела! – жаловался ей крестьянин Игнат. – Почитай, каждый год хлеб с мякиной[5 - Хлеб с мякиной – хлеб с отходами, оставшимися после того, как зерно смолотили.] едим, да окромя щей с крапивой али щавеля до конца лета другого приварка не знаем. А нынче и его забелить[6 - Забелить прива рок – добавить в еду сметану.] нечем – последняя коровенка околела.
– Барыня-то наша получше других тем, что не драчлива, – говорила хозяйка избы, которую навестила няня. – Да только это в ней и есть, а своего добра не упустит. Ох, не упустит! Не таковская! Ведь она день-деньской торчит на косовице али на жнитве, все около тебя топчется да так во все глазоньки и глядит на тебя, чтобы ты, значит, хоть трошку времени без работы не осталась. Ведь дохнуть тебе не даст. Намедни как зачнет меня кликать, да раз за разом… Подхожу, а она мне: «Что, – говорит, – Аннушка, куда ты все бегаешь? Почто серп бросаешь?» – «Матушка-барыня, ребенок туточка, у кустов положен… Кормить его бегаю». – «А сколько ему?» – «Пятый месяц, матушка, ничего, окромя груди, не примает». – «Что же, – говорит, – надо кормить, так корми, а забавляться с им не забавляйся, – мне со своими тоже забавляться не приходится».
– И правду говорит, вот те Христос, правду, – подтверждает няня, – ей не до забавы. Чуть свет-то забрезжит, она уж на ногах. А насчет коровы не сомневайтесь, выпрошу, как пить дать, выпрошу.
Навещая крестьян и выслушивая их просьбы и жалобы, няня, однако, не забывала интересов матушки. Как ни добра и жалостлива была няня, но о пользе нашей семьи она заботилась прежде всего.
– Старайтесь, милые, Христа ради, старайтесь… – говорила няня частенько крестьянам. – Ведь у него-то, у покойника Николая Григорьевича, большая забота была о своих крепостных. Даже перед смертушкой думушку эту про вас крепко держал. Да и барыня вас не обидит, как перед Богом говорю, свято будет блюсти завет покойника.
– Васильевна, – спросил ее однажды молодой крестьянин, – скажи ты нам по всей чистой совести – как, значит, барин-то наш помирал… что он сказал? Наши бают, что он женку-то свою, барыню нашу дюже стращал: «Не забижай, – говорит, – своих крестьян, чтоб они, значит, не прокляли и осиновым колом твою могилу не проткнули».
– Насчет осинового кола не поминал. Вот вам Христос, этих слов не было. Я с барыней безотходно при его кончине у постели стояла. Все словечки его предсмертные как молитву затвердила… Про вас он вот что сказывал барыне: «Не позволяй, – говорит, – никому крестьян твоих обижать. Пусть из-за тебя не раздаются их стоны и проклятья». Вот, как перед истинным, правду вам сказываю.
При этом няня крестилась на образа. Все эти разговоры происходили при мне. Няня всюду таскала меня с собой. После смерти Нины она не доверяла меня никому, да и я сама ни за что не осталась бы без нее. Сидя в углу на лавке, я внимательно прислушивалась к беседе.
– А как – староста Тимофей не очень вас обижает? – спрашивала няня крестьян. – Сказывают, больно зашибать стал да и на руку не чист. Правда это или враки?
– Ну а кто же, – допытывалась она, – ныне самый работящий, самый справедливый крестьянин в Погорелом?
Такими беседами няня приносила матушке большую пользу. Вернувшись после одного из таких посещений, она заявила ей, что староста Тимофей начинает запивать, а что самый работящий и надежный крестьянин – Лука. В первое же воскресенье его призвали к матушке: она долго беседовала с ним, а затем назначила его старостой вместо Тимофея.
На нашего старосту падало много забот и труда. Он должен был вставать раньше всех и быть первым в поле и на всякой сельской работе; он должен был зорко наблюдать, чтобы работники трудились не покладая рук, он обязан был подавать пример другим опытностью и усердием. Когда крестьяне возвращались домой на обед и ложились отдыхать, староста шел еще во двор проверять работу стариков и подростков, которым он поручал рубить дрова, вывозить навоз или кирпич.
После ужина староста не мог тотчас же завалиться на печку или покалякать на завалинке; почти каждый вечер его звали в горницу, где с полчаса он разговаривал с матушкой о том, как и что было сработано сегодня и что делать на другой день.
Но зато земля старосты, как и господская, обрабатывалась матушкиными крепостными. Если изба и хозяйственные постройки старые требовали ремонта, то и это делалось матушкиными рабочими. При вступлении в должность староста получал в собственность с господского двора корову и несколько овец и, кроме того, ежемесячно ему выдавали рожь, ячмень и гречиху. Он не знал многих тягот. Летом каждая крестьянская семья обязана была доставлять своей госпоже определенное количество яиц, орехов, грибов; зимою – пряжу и холст. От всего этого староста и его семья были освобождены. Он был единственным крестьянином, который как в урожай, так и в неурожай мог круглый год есть хлеб без мякины и всегда имел чем забелить свой приварок.
«КАРЛА»
Как ни туго приходилось нашим крестьянам, но в соседних поместьях им жилось еще хуже.
Вскоре после нашего переселения в деревню к матушке то и дело стали ходить крестьяне из Бухонова. Бухоново принадлежало старшему брату матушки Ивану Степановичу Гонецкому, который жил в Петербурге. Имением же управлял немец Карл Карлович.
Прежде чем явиться к матушке, мужики и бабы вызывали няню и умоляли ее упросить «барыню» заступиться за них и обуздать «Карлу»… Но матушка строго-настрого велела няне выпроваживать бухоновских крестьян. Она говорила, что хотя и верит их жалобам, но ничего не может сделать: она считала, что не имеет права вмешиваться в дела своего брата.
Но вот однажды весною, в праздничный день, у нашего крыльца собралась огромная толпа бухоновских крепостных. Несмотря на то, что матушка отказалась выйти, крестьяне не расходились и даже объявили, что не тронутся с места, пока барыня не выслушает их. Волей-неволей матушке пришлось выйти. Тогда из толпы выступило вперед несколько человек.
Долго жаловались крестьяне матушке на «Карлу» и подробно рассказывали ей про его зверства. Они просили, чтобы она сама приехала в Бухоново проверить все, что они говорят, а потом и написала бы братцу – их барину.
Выслушав бухоновских крестьян, матушка пообещала исполнить их просьбу.
В ближайшее воскресенье она отправилась в Бухоново. А вместе с ней и мы с няней. Няня могла понадобиться для разных услуг, на мое же путешествие смотрели как на маленькое развлечение для меня.
Матушка распорядилась, чтобы для нас была приготовлена собственная провизия.
– «Карла» будет звать нас к себе, – говорила она, – но я не желаю даже входить к нему. Есть у него хлеб-соль, а потом на него же жаловаться – это не в моих правилах.
Помещичий дом в Бухонове стоял на другой стороне нашего озера. Решено было отправиться туда на лодке. На весла матушка посадила старосту и еще двух крестьян.
Едва мы высадились на берег, как к нам подошел Карл Карлович.
Это был среднего роста коренастый мужчина, с небольшим брюшком, с очень белым одутловатым лицом, с ярким румянцем на щеках и голубыми глазами. У него были необычайно красные отвислые губы, которые напоминали двух только что насосавшихся кровью пиявок.
Подходя к матушке, «Карла» улыбнулся так весело и радостно, точно встречал родную мать. Он засыпал ее любезностями и приветствиями. По-русски он говорил хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом, но так, что все можно было разобрать. Он сказал, что давно собирался посетить матушку и очень рад ее видеть.
– Самовар и закуска уже на столе! – кончил он.
Прямая и честная, матушка ненавидела всякие подходы и извороты. Поэтому она сразу же объявила ему, что не может принять его угощения, что приехала не в гости, а для того, чтобы посмотреть на житье-бытье крестьян и описать все, что увидит, своему брату.
Услышав это, «Карла» переменился в лице. Из заискивающего он сразу сделался наглым. Запальчиво и резко он отвечал матушке, что она не смеет устраивать у него ревизии, что управление имением поручено ему, а значит, он здесь единственный и полновластный хозяин. При этом он как-то грозно подступал к матушке и последние слова почти выкрикнул своим тонким голосом.
Няня в ужасе всплеснула руками.
– Ах ты, немецкая колбаса! Да как ты смеешь с нашей-то барыней так разговаривать? – воскликнула она.
– Берегись, старая ведьма! – закричал «Карла», поднимая на няню палку.
Я разревелась. Но матушка не была труслива. Она гордо подняла голову и гневно крикнула:
– Только посмейте прикоснуться к кому-нибудь из моего семейства или из моих крестьян. Прочь с дороги! Я буду делать то, что мне надо. – С этими словами она смело двинулась вперед. А за нею последовала и вся ее маленькая свита. От неожиданности «Карла» даже попятился назад, но продолжал выкрикивать нам вслед какие-то угрозы.
– Как из-за того?
– Известно, матушка-барыня, из-за этой самой воли. Я вот как рассуждаю: был он крепостной – значит подначальный, и весь предел ему твердо был обозначен: поди дров наколи, марш в кузницу али там мельницу, и так всякий часок… Значит, нечего тебе голову думкою ломать али какой заботой сердце сушить… Ну а теперь на воле, без старшого изволь сам все удумать…
– Ах, няня, – не выдержала матушка, – и неглупый ты человек, а ведь какой вздор городишь! Разве можно сравнить крепостного с свободным человеком?
Но няня оставалась при своем.
Время шло. Минодору заменила другая девушка – Домна. Но никто в доме не любил ее так, как любили кроткую и тихую жену Васьки. Самого же Василия и подавно никто не мог заменить. Матушка часто вспоминала Ваську и не раз сожалела о нем.
Через полгода после отъезда Василия Саша в Витебске получила от него письмо. Он не забыл своей любимой «барышни», утешавшей его в тяжелые минуты, и писал сестре, что живет с женой в Москве: Минодора служит у княгини горничной и получает жалованье, а он играет в оркестре при одном из московских театров.
Прошел год, и Василий снова написал Саше. В этот раз он сообщал, что княгиня уезжает навсегда за границу, а вместе с нею уезжает и он с Минодорой.
Это было последнее письмо от него. Дальнейшая его судьба осталась нам неизвестной.
Глава третья
Помещичьи нравы
МАТУШКИНО ХОЗЯЙСТВО
Хозяйство матушки приходило все в больший порядок. Причиной этому были не только ее неустанные хлопоты, но и заботы няни. Без няни матушке вряд ли удалось бы узнать всю подноготную каждой крестьянской семьи. Несмотря на ее простое отношение к крестьянам, несмотря на то, что она сама нередко заходила в избы, крестьяне все-таки чуждались ее. Совсем иначе относились они к няне: в каждой крестьянской семье она была своим человеком. Няню всегда звали на крестьянские свадьбы, у нее было много крестников среди крестьянских ребят. Няня ходила к больным и носила им лекарства, гостинцы – кусок булки или детскую рубашонку, перешитую из нашего старья.
Крестьяне хорошо знали, что няня бережет барское добро пуще своего глаза, но они все-таки были уверены, что из-за нее не выйдет неприятности, что она первая усердно похлопочет за каждого из них.
– Бедность лютая нас одолела! – жаловался ей крестьянин Игнат. – Почитай, каждый год хлеб с мякиной[5 - Хлеб с мякиной – хлеб с отходами, оставшимися после того, как зерно смолотили.] едим, да окромя щей с крапивой али щавеля до конца лета другого приварка не знаем. А нынче и его забелить[6 - Забелить прива рок – добавить в еду сметану.] нечем – последняя коровенка околела.
– Барыня-то наша получше других тем, что не драчлива, – говорила хозяйка избы, которую навестила няня. – Да только это в ней и есть, а своего добра не упустит. Ох, не упустит! Не таковская! Ведь она день-деньской торчит на косовице али на жнитве, все около тебя топчется да так во все глазоньки и глядит на тебя, чтобы ты, значит, хоть трошку времени без работы не осталась. Ведь дохнуть тебе не даст. Намедни как зачнет меня кликать, да раз за разом… Подхожу, а она мне: «Что, – говорит, – Аннушка, куда ты все бегаешь? Почто серп бросаешь?» – «Матушка-барыня, ребенок туточка, у кустов положен… Кормить его бегаю». – «А сколько ему?» – «Пятый месяц, матушка, ничего, окромя груди, не примает». – «Что же, – говорит, – надо кормить, так корми, а забавляться с им не забавляйся, – мне со своими тоже забавляться не приходится».
– И правду говорит, вот те Христос, правду, – подтверждает няня, – ей не до забавы. Чуть свет-то забрезжит, она уж на ногах. А насчет коровы не сомневайтесь, выпрошу, как пить дать, выпрошу.
Навещая крестьян и выслушивая их просьбы и жалобы, няня, однако, не забывала интересов матушки. Как ни добра и жалостлива была няня, но о пользе нашей семьи она заботилась прежде всего.
– Старайтесь, милые, Христа ради, старайтесь… – говорила няня частенько крестьянам. – Ведь у него-то, у покойника Николая Григорьевича, большая забота была о своих крепостных. Даже перед смертушкой думушку эту про вас крепко держал. Да и барыня вас не обидит, как перед Богом говорю, свято будет блюсти завет покойника.
– Васильевна, – спросил ее однажды молодой крестьянин, – скажи ты нам по всей чистой совести – как, значит, барин-то наш помирал… что он сказал? Наши бают, что он женку-то свою, барыню нашу дюже стращал: «Не забижай, – говорит, – своих крестьян, чтоб они, значит, не прокляли и осиновым колом твою могилу не проткнули».
– Насчет осинового кола не поминал. Вот вам Христос, этих слов не было. Я с барыней безотходно при его кончине у постели стояла. Все словечки его предсмертные как молитву затвердила… Про вас он вот что сказывал барыне: «Не позволяй, – говорит, – никому крестьян твоих обижать. Пусть из-за тебя не раздаются их стоны и проклятья». Вот, как перед истинным, правду вам сказываю.
При этом няня крестилась на образа. Все эти разговоры происходили при мне. Няня всюду таскала меня с собой. После смерти Нины она не доверяла меня никому, да и я сама ни за что не осталась бы без нее. Сидя в углу на лавке, я внимательно прислушивалась к беседе.
– А как – староста Тимофей не очень вас обижает? – спрашивала няня крестьян. – Сказывают, больно зашибать стал да и на руку не чист. Правда это или враки?
– Ну а кто же, – допытывалась она, – ныне самый работящий, самый справедливый крестьянин в Погорелом?
Такими беседами няня приносила матушке большую пользу. Вернувшись после одного из таких посещений, она заявила ей, что староста Тимофей начинает запивать, а что самый работящий и надежный крестьянин – Лука. В первое же воскресенье его призвали к матушке: она долго беседовала с ним, а затем назначила его старостой вместо Тимофея.
На нашего старосту падало много забот и труда. Он должен был вставать раньше всех и быть первым в поле и на всякой сельской работе; он должен был зорко наблюдать, чтобы работники трудились не покладая рук, он обязан был подавать пример другим опытностью и усердием. Когда крестьяне возвращались домой на обед и ложились отдыхать, староста шел еще во двор проверять работу стариков и подростков, которым он поручал рубить дрова, вывозить навоз или кирпич.
После ужина староста не мог тотчас же завалиться на печку или покалякать на завалинке; почти каждый вечер его звали в горницу, где с полчаса он разговаривал с матушкой о том, как и что было сработано сегодня и что делать на другой день.
Но зато земля старосты, как и господская, обрабатывалась матушкиными крепостными. Если изба и хозяйственные постройки старые требовали ремонта, то и это делалось матушкиными рабочими. При вступлении в должность староста получал в собственность с господского двора корову и несколько овец и, кроме того, ежемесячно ему выдавали рожь, ячмень и гречиху. Он не знал многих тягот. Летом каждая крестьянская семья обязана была доставлять своей госпоже определенное количество яиц, орехов, грибов; зимою – пряжу и холст. От всего этого староста и его семья были освобождены. Он был единственным крестьянином, который как в урожай, так и в неурожай мог круглый год есть хлеб без мякины и всегда имел чем забелить свой приварок.
«КАРЛА»
Как ни туго приходилось нашим крестьянам, но в соседних поместьях им жилось еще хуже.
Вскоре после нашего переселения в деревню к матушке то и дело стали ходить крестьяне из Бухонова. Бухоново принадлежало старшему брату матушки Ивану Степановичу Гонецкому, который жил в Петербурге. Имением же управлял немец Карл Карлович.
Прежде чем явиться к матушке, мужики и бабы вызывали няню и умоляли ее упросить «барыню» заступиться за них и обуздать «Карлу»… Но матушка строго-настрого велела няне выпроваживать бухоновских крестьян. Она говорила, что хотя и верит их жалобам, но ничего не может сделать: она считала, что не имеет права вмешиваться в дела своего брата.
Но вот однажды весною, в праздничный день, у нашего крыльца собралась огромная толпа бухоновских крепостных. Несмотря на то, что матушка отказалась выйти, крестьяне не расходились и даже объявили, что не тронутся с места, пока барыня не выслушает их. Волей-неволей матушке пришлось выйти. Тогда из толпы выступило вперед несколько человек.
Долго жаловались крестьяне матушке на «Карлу» и подробно рассказывали ей про его зверства. Они просили, чтобы она сама приехала в Бухоново проверить все, что они говорят, а потом и написала бы братцу – их барину.
Выслушав бухоновских крестьян, матушка пообещала исполнить их просьбу.
В ближайшее воскресенье она отправилась в Бухоново. А вместе с ней и мы с няней. Няня могла понадобиться для разных услуг, на мое же путешествие смотрели как на маленькое развлечение для меня.
Матушка распорядилась, чтобы для нас была приготовлена собственная провизия.
– «Карла» будет звать нас к себе, – говорила она, – но я не желаю даже входить к нему. Есть у него хлеб-соль, а потом на него же жаловаться – это не в моих правилах.
Помещичий дом в Бухонове стоял на другой стороне нашего озера. Решено было отправиться туда на лодке. На весла матушка посадила старосту и еще двух крестьян.
Едва мы высадились на берег, как к нам подошел Карл Карлович.
Это был среднего роста коренастый мужчина, с небольшим брюшком, с очень белым одутловатым лицом, с ярким румянцем на щеках и голубыми глазами. У него были необычайно красные отвислые губы, которые напоминали двух только что насосавшихся кровью пиявок.
Подходя к матушке, «Карла» улыбнулся так весело и радостно, точно встречал родную мать. Он засыпал ее любезностями и приветствиями. По-русски он говорил хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом, но так, что все можно было разобрать. Он сказал, что давно собирался посетить матушку и очень рад ее видеть.
– Самовар и закуска уже на столе! – кончил он.
Прямая и честная, матушка ненавидела всякие подходы и извороты. Поэтому она сразу же объявила ему, что не может принять его угощения, что приехала не в гости, а для того, чтобы посмотреть на житье-бытье крестьян и описать все, что увидит, своему брату.
Услышав это, «Карла» переменился в лице. Из заискивающего он сразу сделался наглым. Запальчиво и резко он отвечал матушке, что она не смеет устраивать у него ревизии, что управление имением поручено ему, а значит, он здесь единственный и полновластный хозяин. При этом он как-то грозно подступал к матушке и последние слова почти выкрикнул своим тонким голосом.
Няня в ужасе всплеснула руками.
– Ах ты, немецкая колбаса! Да как ты смеешь с нашей-то барыней так разговаривать? – воскликнула она.
– Берегись, старая ведьма! – закричал «Карла», поднимая на няню палку.
Я разревелась. Но матушка не была труслива. Она гордо подняла голову и гневно крикнула:
– Только посмейте прикоснуться к кому-нибудь из моего семейства или из моих крестьян. Прочь с дороги! Я буду делать то, что мне надо. – С этими словами она смело двинулась вперед. А за нею последовала и вся ее маленькая свита. От неожиданности «Карла» даже попятился назад, но продолжал выкрикивать нам вслед какие-то угрозы.