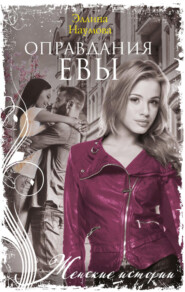По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Будь моим отцом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Опыт.
– Опыт? Или вы в курсе, кто мой отец? Клянусь вам, разочарование и боль – мелочь по сравнению с неизвестностью.
– Не клянись никогда и никому, даже себе. Все равно соврешь. Лера, я не грублю и не ампутирую тебе крылья. Просто стараюсь уяснить, продолжать ли нам этот разговор. И в каком плане.
Незваная гостья медленно поднялась, не отрывая взгляда от своей чашки. Она словно боялась вспугнуть им хозяйку.
– Я понимаю. Где можно руки вымыть?
– Коридорчик из холла направо, – послала Алла Константиновна.
И, оставшись в одиночестве, сжала кулаки. Ногти впились в ладони, но она все давила и давила ими кожу, все эти линии жизни, судьбы, головы, сердца, здоровья. Будто собиралась выдавить из них ответ, который по медицинской заповеди не навредит.
Сентябрьские занятия в институте. Гордые и растерянные дети являли собой пример броуновского движения. Они хаотично перемещались, сталкиваясь с людьми из своей группы то в укромном углу, облюбованном немногочисленными еще курильщиками, то в столовке, то на остановках. Болтали, знакомились. Девочки прибивались к девочкам, мальчики к мальчикам, будто в первый класс пришли, а не на первый курс. Все активничали, только Алла Костомарова была ненормальной частицей – застряла в человеческом достоинстве, оскорбленном предательством, и не шевелилась. Ее школьная подруга оказалась в другой группе и старательно делала вид, будто они незнакомы. Потому что не отставала от дочки профессора-хирурга, дружба с которой сулила ей некие блага. Какие именно, Алка не понимала, но было очень обидно. Откуда ей было знать, что первый этап сменится вторым: люди начнут искать друзей широко – на потоке, на курсе, на своем факультете, на других. И с профессорской дочкой они еще покуролесят так, что мед запомнит надолго.
Но тогда она была доброжелательно равнодушна. Ее способность поддержать любой разговор, умение ввернуть анекдот к месту и готовность терпеливо ждать курильщицу, пока та дымит, мощно притягивали. И столь же сильно отталкивало явное нежелание распахивать душу. Задержалась рядом только Аня Тимофеева, которая тоже к нутряному стриптизу предрасположена не была, а домой им было по пути.
Девушки были слишком разными, чтобы интересовать друг друга больше недели. Алле едва исполнилось семнадцать, Ане – двадцать один. У первой была золотая медаль, не слишком высокая, но все же номенклатурная и с перспективой роста мама. Вторая, чтобы поступить, отработала секретарем на кафедре пару лет и год в деканате. Матушка ее трудилась на заводе и была инвалидом из-за какого-то нервного расстройства. Костомарова с рождения жила в квартире, Тимофеева – в десятиметровой комнате, в громадной коммуналке на Петровке. Однако семью днями они не отделались. Ане хотелось говорить, Алле легче было скучать с ней молча, чем терпеть одиночество. И еще обе были добрыми, не способными ни навязываться, ни грубо отделываться от кого бы то ни было. Хотя именно об этой главной своей похожести так и не догадались.
Аллу в Ане смущало многое. Старорежимный блин пришпиленных на затылке длинных волос. «Бабский прикид» – черная юбка за колено, шифоновая блузка с бантом на груди, ровный самовяз шерстяной кофты, а с ноября по апрель – добротные пальто. Ни джинсов, ни куртки, ни дубленки, ни импортного трикотажа. Но это еще удавалось объяснить своеобразным представлением о моде в рабочей среде. Чтобы прилично одеться, надо было пойти в ателье, выслушать «художника» – тощую девицу, черпавшую идеи из журналов «Работница» и «Крестьянка», потом посоветоваться с закройщицей в возрасте, которая брезгливо отвергала эти идеи, и, наконец, выбрать нечто среднее между «как у всех» и «как у Толкуновой на «Голубом огоньке». Влетало это в копеечку, сшитое на заказ берегли – Тимофеева проносила свою одежду все годы учебы. Вещи неизменно были чистыми и отутюженными. Так что с ее внешним видом аккуратистке Костомаровой удавалось мириться. Да и занимались первокурсники в халатах. Надо ли говорить, что такого белоснежного и хрустко крахмального, как у Ани, ни у кого не было.
Но манера Тимофеевой сводить любой треп к интиму казалась непристойной. Со всякой дороги она уверенно сворачивала на одну: кто с кем любовники, каковы оба, по ее мнению, в постели и долго ли им еще там кувыркаться вместе. Озабоченная девушка всех подозревала в половых извращениях, о которых Алла в жизни не слышала. Она с родни одеяло скидывала. Однажды буднично, не краснея, сказала: «От мамы ушел дядя Миша. Это ее последний гражданский муж. Она не очень расстраивается, говорит, они год жили как брат с сестрой». Костомарова испытала неловкость, будто это сказали про ее мать. И утвердилась в мысли, что приятельница – сексуальная маньячка, но не виновата в отклонении. Поспи-ка с детства в одной комнате с родительницей и ее мужиками. Разовьется тут болезненное любопытство и соответствующее воображение.
Однако возмутившая девочку Аллочку распутная тетка оказалась простой, милой, уютной, добросердечной женщиной. Тимофеева как-то предложила зайти. Костомарова поколебалась, но решилась. В комнатенке не было ни пылинки. Стекла и паркет блистали, будто во дворце. На широкой металлической кровати возлежали нереальной пышности перина и подушки, накрытые чем-то кружевным и белоснежным, как в деревне. Ничего развратного в постели не было. Она смешила в городе конца двадцатого века, и только. Остальная мебель была вполне современной. И диван, на котором ночевала дочь, устилал скромный бежевый плед. Инвалидка с больной нервной системой вовсе не застыла в кресле-каталке, гримасничая причудливыми тиками. Крепкая, улыбчивая, облаченная в цветной байковый халат, с завитыми и уложенными волосами мать Ани искренне обрадовалась гостье и принялась хлопотать. Той вспомнились слова «попотчевать», «уважить» и «приветить».
Книг здесь не читали. Художественный вымысел в фильмах отрицали – режиссеры снимали правду, чем глупее, тем правдивее. Но о реальных людях знали все, особенно кто с кем спит и от кого рожает. Типов, с какими Аню и маму жизнь еще не сталкивала, неизбежно встречали их бабушки-прабабушки. И не забыли рассказать внучкам-правнучкам. В основном устные предания касались мерзостей человеческой натуры. В самом деле, чего о добре-то предупреждать? Все сами выпячивают, чтобы и слепой заметил. Это зло прячут. Его надо учить распознавать. А какое зло самое злое для женщины, будь она хоть уборщица, хоть начальница? Правильно, баба, способная увести мужика.
Поначалу Алла слушала с любопытством. Ей и в голову не приходило, что такое множество простых людей втихаря блудит напропалую, осуждая менее скрытных грешников и, кажется, до изнеможения им завидуя. Все жизненные трагедии и комедии во все времена начинались, как оказалось, с похлопывания женщины по заду. Мудрый народ думал лишь о размножении. И уверял, будто в этом смысле он един с легкомысленной интеллигенцией. Да, еще справедливости в мире недоставало. Но пережить это было легче, чем безнаказанный соседский разврат. Костомарова сочла эту трактовку действительности клеветой на человечество. В ее окружении тоже болтали о любви, романах, флирте, свадьбах, изменах, разводах. Всегда с точки зрения чувств – хорошо ли поступили, дурно ли. И никогда с точки зрения физических ощущений – удовлетворяет кто-то кого-то или нет. Ей захотелось подарить Тимофеевой несколько книжек и билеты в театр.
Пока раздумывала, не обидит ли Аню столь явным намеком на узкие и мелкие интересы, к ним прибилась Ленка. Не найдя достойных общения с глазу на глаз ни в группе, ни на потоке, она занялась целым курсом. Несколько раз подсела к Костомаровой и Тимофеевой в буфете. Слушала, вопросы задавала. И подумала, что Алла не слишком отстала от нее в умственном развитии. Дальше все было просто. Ленка не отставала от девушек ни на шаг и неумолчно болтала, задавая близкие Алле и чуждые Ане темы. Тимофееву никто не гнал. Она сама незаметно отправилась искать собеседниц попроще. Уставшая мысленно присутствовать при чужом совокуплении Алла, разумеется, ее не удерживала. Честно говоря, ей и Ленка не слишком нравилась. Казалась трепливой эгоисткой. Но лень было избавляться, притворившись дурой. Так и продружили тридцать лет.
С Аней они больше не пересекались. Здоровались приветливо, спрашивали друг у друга: «Как дела?» Ответ не интересовал. Но у обеих до выпускного сохранялась уверенность в том, что, если понадобится помощь, есть к кому идти. Аллу Тимофеева однажды выручила так, что забыть не удалось, хотя иногда сильно хотелось. Надвигался грозный экзамен по анатомии. И – все, никаких костей, вырезок из человеческих тел, называемых препаратами, целых трупов. А главное, свобода от зубрежки многословных латинских названий каждой толики того, из чего состоят люди. Костомаровой удавалось сдавать на пятерки зачеты. Но даже ей приходилось утешать себя: «Ты – золотая медалистка, у тебя отличная память и вкус к латыни. Как же справятся блатные троечники, деревенские ребята и рабфаковцы? А ведь переползут через эту анатомию на четвереньках. И еще прекрасными хирургами станут. Не трусь, получишь свое «отлично».
Не тут-то было. В сессию мама вспомнила, что в этом году отец прекращает платить алименты: «Все, дорастил дочь до совершеннолетия, может свои жалкие копейки тратить на детей, которых не бросил». – «Я так хочу с ним встретиться, – сказала Алла. – Мамочка, пожалуйста, устрой нам свидание напоследок. Он ведь несколько раз пытался меня увидеть, но ты запрещала». – «Я защищала тебя от глупых надежд! – воскликнула упрямо не пропавшая с ребенком на руках женщина. – Ты такая доверчивая и впечатлительная! Что толку от встреч с подлецом, который ушел от нас, когда тебе было два года? И вообще, я тебя обманывала. Врала, пошло врала, будто он тобой интересуется. Не пытался он тебя увидеть никогда. Ни разу за шестнадцать лет не звонил, не маячил в пределах видимости. Это – жестокая правда. Больше не говорим о нем, смысла нет. Я его не простила и не прощу. И тебе советую». Как раз в это время мама собиралась замуж, и дочь заподозрила, что признанием она отсекала разговоры о бывшем муже, не желая расстраиваться. Не верилось, что можно лгать, дескать, отец хочет тебя увидеть, а я не позволю, облегчая неполное, но все-таки сиротство ребенка. О чем Алла маме и сообщила. Мама соглашаться отказалась. Обе сорвались, каждая со своей цепи обиды и одиночества. Так, как тогда, они ни до, ни после не ругались. Повторить те оскорбления не смогли бы и на дыбе. Разумеется, за криками последовали дни взаимного бойкота.
Вместо того чтобы учить анатомию, Костомарова страдала. Ненависть к матери была безмерна. Не удержала ее папу, молодого, красивого, доброго, выгнала. Значит, не любила. А другой бабе он был дорог. Родила ему двоих детей, уже много лет семья живет. И на самом деле отец рвался к дочке Аллочке. Мама не пускала их друг к другу, чтобы он не сказал, кто виноват в разводе. Раз так, и ее мечта о дочери-враче не осуществится. Пусть выгоняют из медицинского, пусть. И Алла не пошла на экзамен, к которому готова все равно не была.
Но, достигнув предела в обвинениях матери, она инстинктивно сделала шаг назад от края. И подумала: «Вдруг папа действительно только раздражался, когда из его небольшой зарплаты вычитали на меня деньги? Мы с мамой – отрезанный ломоть, и, если бы не эти чертовы алименты, он забыл бы о нашем существовании, как о неудачном эксперименте. В конце концов, мог бы найти меня, тайно встретиться. Не очень-то было нужно, получается». За просветлением следовал безжалостный, нагло оскалившийся ужас: «Что я натворила? Сдала на пятерки все, и дифзачеты, и экзамены. Зачем, зачем я послала к черту анатомию? И без зубрежки могла попробовать как-нибудь. Господи, спаси, ради Бога». Мама была в командировке. За пару дней необходимо было склеить осколки ее мечты.
Алла помчалась в институт. Рассказала в деканате и на кафедре что-то чудовищное о нападении хулиганов, умоляла. Поскольку двоечников, как обычно на этом рубеже, было много, ее допустили к сдаче вместе с ними. Пришлось лгать вернувшейся маме, будто экзамен перенесли. Девушка уныло зубрила, тупо рассматривала препараты в анатомичке, но справиться с отчаянием не могла. И с билетом ей катастрофически не повезло. Кое-как ответила на тройку с минусом. «Ставлю «удовлетворительно» не за знание анатомии, а за отличную зачетку, – вздохнул пожилой седоусый доцент. – Как же вы так, товарищ студентка? Безответственно?» Привыкшая к ее «высшим баллам» мать сначала растерялась. Потом разъярилась. Допытывалась, что она себе позволяет. Дочь отмалчивалась. У нее не осталось сил врать.
Однако через неделю их пришлось искать. Студенческий заезд в мамином ведомственном доме отдыха в Прибалтике угорал без Аллы. Ее наказали рублем за первый в жизни трояк. Она таскалась в магазин за глазированными сырками и ряженкой, пылесосила дом и грустила. Каникулы пропадали. Однажды, возвращаясь из супермаркета, нашла в дверях записку: «Аллочка, где ты? Сдала анатомию? А то нашему старосте нужно отчитываться перед деканатом. Про всех все известно, все обошлись без пересдачи, только ты – загадка. У меня пятерка, сама не верю. Мечтала о трояке, как о большом везении. Староста попросил меня найти тебя. Забеги ко мне. Жаль, что не застала. Гуляешь? Мальчик появился? Пока. Аня». Костомарова представила себе, что эту бумажку обнаружила мама, и расплакалась.
Нужно было идти к Тимофеевой, чтобы не усугублять опасность разоблачения. И всю дорогу неудачница выдумывала причины своего провала. За плохую отметку было стыдно. Алла думала, что такой же стыд испытывают воры и убийцы. Под гул метро, который не ей одной помог не свихнуться, она решила наплести, что безответно влюбилась. Аня должна была счесть это интересным объяснением. Но, очутившись в уюте и чистоте комнаты на Петровке, приняв из теплых рук Аниной матушки чашку с чаем, Костомарова вдруг понесла нечто несусветное. У нее, дескать, накануне экзамена умер папа. Она ничего не сказала маме, потому что та его до сих пор любит как ненормальная, замуж за других не идет и, самое ужасное, ждет, вдруг когда-нибудь вернется. И вот ночью стойкая дочь одна вылетела в Иркутск на похороны. Папина жена и двое сыновей открыто ее шпыняли, едва ли не гнали с кладбища. Но верная Алла все стерпела – родной отец преставился, горе.
Растроганные хозяйки прослезились и согласно кивали: «Да, Аллочка, да, милая, люди – звери, ничего святого. Думали, завещал он тебе что-то. И злодейски пытались избавиться от тебя, чтобы не отдавать». Аня так и сказала «злодейски», чем ввергла гостью в неведомую ей прежде радость. Алла с трудом скрыла истинные чувства и объяснила, что после такого унижения стало не до анатомии. Ей сочувствовали, выясняли, какая жилплощадь у покойного была на Севере, какого возраста у него мальчики, кем он работал. Алла закусила удила и фантазировала, разбавляя слезами чай. А в голове вертелось: «Только бы про иркутские достопримечательности не спрашивали. Я же там никогда не была». То, что ее живехонький освободившийся от алиментов папа и его вторая семья тоже из Москвы уезжали только летом в Сочи, ее тогда не занимало.
Процесс лжи был таким вдохновенным и ярким, что даже совесть Костомаровой молчала, пораженная и, кажется, испуганная. Алла смутно догадывалась, что давно хотела, чтобы с экзаменом и родителем все обстояло именно так. Это безумное желание убедило и чувствительных Тимофееву с мамой, и ее саму. И раздавленная, опозорившаяся мерзкой тройкой девушка вышла на улицу с нахально вздернутым подбородком. Настроение было отличным.
Начался семестр. Мама ехидно интересовалась, когда Алла устроится на работу. Полгода содержать троечницу она не желала. Обе знали, что эти разговоры – метод воспитания и профилактика бунта. Чем ближе и реальнее становилось замужество матери, тем чаще дочь, норовящую высмеять будущего отчима, затыкали угрозой принудительного труда. А подрабатывать медсестрой ночными дежурствами Костомаровой не хотелось даже из гордости. Отличница вдруг на собственной шкуре убедилась в том, что, изуродовав зачетку трояком, не поглупела. Новые друзья-приятели от нее не отвернулись. Напротив, как-то ближе стали, будто признали человеком. Перевалив за хребет анатомии, народ решил, что бояться отныне нечего. Разве что за аморалку могли отчислить. И массово закурил и опасно запил на вечеринках. Алла стала учиться добротно, но без фанатизма и от лихого коллектива не отрывалась.
Тем не менее, когда настала пора выдачи стипендии, ей было не по себе. Чтобы студенты не удлиняли очередь в кассу, деньги на группу получал староста. А потом наступало лучшее время в институте. На сей раз шелест купюр, щебет девушек и остроты мальчиков на тему «напиться и забыться» Алла слушала из угла коридора. Она не сообразила незаметно исчезнуть вместе со злостными врагами успеваемости. И вынуждена была начать пробиваться к дверям сквозь шумную веселую толпу в одиночестве.
– Костомарова, куда? Я должен твою стипу до вечера носить, что ли? – ухватил ее за рукав взмокший от ответственной дележки староста.
– Так я же анатомию… Мне не начислили, – выдавила из сухого горла Алла.
– Начислили, – бодро сказал он. – В деканате в журнале все твои пятерки, тройка и написано – смерть отца. Так что прими соболезнования и деньги.
Расписавшись в ведомости, Алла посмотрела поверх голов сокурсников. Аня Тимофеева пересмеивалась с кем-то, аккуратно складывая бумажки в кошелек. Надо было подойти к ней и поблагодарить. Но дело в том, что бескорыстная лгунья не могла ограничиться словом «спасибо». Она принялась бы клясться, что рассказала о папе, не думая о стипендии. Не догадывалась, что есть причины, по которым ее не лишают. Сообщила бы, что покойник никакой не покойник, а она, заживо его хоронившая, дрянь. Вообще не понимает, как с ней такое случилось. Раскаивается, извиняется и отказывается от денег.
Разумеется, Алла струсила. Признание застряло в ней, и казалось, уже никогда не удастся легко и безболезненно дышать. «Я создам Ане лишние проблемы. Разочарование во мне она как-нибудь переживет. Но повторить мое идиотское объяснение в деканате немыслимо. Господи, ведь все это – чистая правда, я действительно врала и готова отказаться от стипендии. А ей там перестанут верить. В конце концов, я ее ни о чем не просила. Она сама решила, сама ходила, сама говорила. С кем? Со знакомыми секретаршами? С деканом? Что я натворила! Как жить дальше? Сдохнуть честнее», – лихорадочно думала Костомарова. Ее тошнило. Зрение утратило четкость. В виски глухо и тяжело молотилась кровь. Она не помнила, как ехала домой. Там рыдала. Выла. Билась лицом о подушку. Когда пришла мама, дочь выскочила в холл и швырнула стипендию на пол: «Вот, ликуй, кормить меня тебе не придется». У нее был такой вид, что мать отшатнулась и не решилась потребовать собрать деньги.
С неделю ей было паршиво-препаршиво. А потом наслоились другие впечатления. И наслаивались до того вечера, когда подруга рассказала о смерти Тимофеевой. Она обмякшими руками вытрясала из бумажника содержимое. «С ума сошла! Я понимаю, ты в шоке, но на что жить будешь? У тебя, между прочим, ребенок болеет», – пыталась образумить ее Ленка. «У мужа есть заначка», – отмахивалась Алла. Хотя знала, что ни копейки у него нет, а скандал будет отвратительный. Она исколотой нервными мурашками кожей чувствовала, что это – последний шанс вернуть долг Ане. Даже не ей, что в голове не укладывалось, а ее дочке, родне, кому угодно, только отдать все деньги. Успеть.
И вдруг оказалось, что должок за ней числится до сих пор. Только не наличные понадобились сироте, а ответ на вопрос, кто ее папа. Шершавое ощущение, будто тогда, выгребая деньги, Алла сознательно не заметила рубль и теперь за ним пришла наследница Тимофеевой, грубо заполнило женщину. Изгонять его было бессмысленно. «Решайся, да, нет, только решись на что-нибудь», – призвала себя Алла Константиновна. Но это и было невыносимо трудно, потому что расплачиваться за ее откровения предстояло уже не ей самой, а Лере.
Аня Тимофеева будто встала перед глазами. Алла Константиновна всегда считала это фигурой речи. Какое там! Вот же она – грустновато, но с хитринкой улыбается и молчит. Не только строгое желание не походить на распутницу запрещало ей вынимать шпильки из прически и носить легкомысленные тряпки. Сама природа, казалось, озаботилась тем, чтобы не дать этой девушке стать слишком привлекательной. Натуральную блондинку с тяжелыми длинными волосами, светло-голубыми глазами и молочного цвета кожей едва ли не уродовал широкий короткий пористый нос. А отличная фигура, буквально девяносто – шестьдесят – девяносто, не смотрелась при росте в полтора метра даже на высоченных каблуках. Она нормально училась – четверки, немного пятерок. Но не хвасталась интеллектом по причине его отсутствия. Культпоход в театр вызывал у блестевшей от возбуждения глазами Ани однотипные замечания – этот актер гомик, а тот – кобель. И еще она не участвовала в вечеринках группы, больше напоминавших попойки, – курса с третьего работала медицинской сестрой ночами и в выходные. В узкие стильно-джинсовые компании с широкими и экстравагантными интересами ее не звали.
Вряд ли у нее был шанс увлечь ровесника. Костомарова не исключала, что ради столичной прописки какой-нибудь деревенский, отслуживший в армии и намучившийся на рабфаке мальчик женится. Его после общаги и комната не испугала бы. И теща. Наоборот, ее инвалидность обеспечивала молодой семье неучастие в драмах распределения за пределы Москвы. Но во время учебы таких не нашлось. Что поделаешь, году в восемьдесят третьем двадцатого века иногородние студенты усиленно обольщали не просто москвичек, но москвичек хоть с каким-нибудь блатом. А в меде их было… Собственно говоря, только они и были.
4
– Э… Я присяду?
Хозяйка подняла голову. Она удивилась бы меньше, возникни в поле ее зрения Аня Тимофеева. Но с ноги на ногу переминалась Лера. За метр шестьдесят ростом, худощавая, длинноногая, густоволосая брюнетка, глаза темные, кожа гладкая, носик пряменький. Тонкие летние джинсы и майка из бутика. И все же было в ней что-то неуловимо тимофеевское.
Алла Константиновна вновь не сообразила, что это – доброжелательность. Готовность не осудить человека, а узнать его и поразиться. Измученная гостьями женщина среагировала только на внешность и подумала: «Явно в отца девочка».
Будь у нее время отстраненно поразмыслить, она вряд ли сказала бы то, что сказала. Это было глупо, сентиментально, попросту вредно для девчонки, а то и нехорошо по отношению к Ане. Кто знает, рада она была бы таким откровениям или наоборот. Мало ли что ляпнешь случайной приятельнице на первом курсе. Детям об этом сообщать через много лет вовсе не обязательно. Но Лера тихо спросила:
– Вы вспомнили что-то? Кем мой папа хотя бы мог быть?
И Алла Константиновна почему-то сухо ответила:
– Для начала повторю главное. Я представления не имею, как жила Аня после института. Более того, я смутно представляю, как она жила после первого курса. Она была хорошим человеком и однажды сделала такое нечаянное для меня добро, что вряд ли я вправе тебе лгать, будто мы не говорили на тему деторождения. Только подчеркиваю, разговор состоялся ориентировочно в семьдесят восьмом году. Надо думать, лет за восемь-девять до твоего появления на свет?
– За девять, – прошептала Лера, боясь вспугнуть то, что она считала удачей.
– Вот видишь, за такой срок меняются человеческие представления о чем угодно.
– Алла Константиновна, вы меня уже до истерики напугали. Создается впечатление, что мама грезила людоедом, – не выдержала Лера.
Тон был насмешливым, а не злобным или отчаянным, что понравилось маниакально кружившей вокруг да около хозяйке. Она уже почти додумалась поинтересоваться, говорила ли мать дочери, от кого ее родила. Но эта нетерпеливая дочь постоянно сбивала ее с верных мыслей. И Алла Константиновна выпалила:
– Не людоедом, а старым евреем.
Протянутая за чашкой с давно остывшим чаем рука гостьи замерла в воздухе.