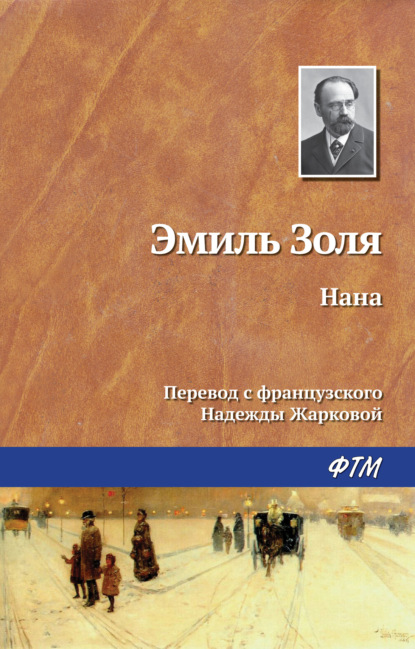По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но появилась под водительством Ириды с Ганимедом делегация смертных, почтенных обывателей; обманутые мужья пришли принести владыке богов жалобу на Венеру, зачем-де она воспламеняет страстями их жен. Нарочито наивная жалоба хора, прерываемая долгими многозначительными паузами, развеселила публику. Весь зал облетело чье-то крылатое словцо: «Хор рогачей, хор рогачей», – и оно так и осталось за этим номером. Раздались крики «бис!». Да и у самих хористов вид был забавный, вполне подходящий к случаю; особенно пришелся по вкусу публике один толстяк с круглой, как полная луна, физиономией. Тем временем на сцену выскочил разъяренный Вулкан, требуя свою супругу, которая вот уже три дня находится в бегах. Снова вступил хор, взывая к богу рогоносцев Вулкану. Его играл Фонтан, комический актер самобытного, но вульгарного дарования, неуемной разнузданной фантазии. Вулкана он изображал в виде сельского кузнеца в огненно-рыжем парике, с обнаженными руками, покрытыми, точно татуировкой, изображением пронзенных стрелой сердец. Какая-то женщина, не удержавшись, воскликнула на весь зал: «Ну и урод!» Слова ее были покрыты смехом и аплодисментами.
Следующая сцена показалась публике бесконечно растянутой. Юпитер никак не мог собрать совет богов, дабы обсудить петицию рогоносцев. А Нана так и не появлялась. Неужели ее выпустят на сцену только под занавес? Это бесконечно долгое ожидание стало раздражать публику. Снова послышался шепот.
– Дело плохо, – твердил, сияя, Миньон банкиру Штейнеру. – Зря публику заманивают!
В эту самую минуту облака в глубине сцены раздвинулись, и показалась Венера. Нана, очень рослая, очень дородная для своих восемнадцати лет, в белой тунике, как и положено небожительнице, с распущенными по плечам без всяких ухищрений длинными белокурыми волосами, спокойно и самоуверенно приблизилась к рампе, улыбнулась публике. И завела свою выходную арию:
Однажды вечерком Венера…
Когда певица начала второй куплет, весь зал удивленно переглянулся. Что это, шутка, новая блажь Борденава, или он просто побился с кем-нибудь об заклад? Никогда еще на театральных подмостках не звучал такой фальшивый голос, выдававший полное отсутствие школы. Прав был директор Варьете, заявив, что она поет, как драная кошка. И к тому же не умеет даже держаться на сцене, нелепо выбрасывает вперед руки, покачивается всем телом, что, во-первых, малопристойно, а во-вторых, просто неизящно. В креслах уже послышалось возмущенное «о! о!», уже засвистели на приставных местах, как вдруг в партере раздался чей-то ломающийся, как у молодого петушка, голос.
– Шикарно! – провозгласил говоривший с непоколебимой убежденностью.
Весь зал уставился на смельчака. Им оказался тот самый херувимчик, школяр, улизнувший из коллежа; он таращил на Нана свои красивые глаза, его окаймленное белокурыми локонами лицо разгорелось. Заметив, что все бинокли и взоры устремились на него, он побагровел от стыда, сообразив только сейчас, что кричал во все горло. Дагне с улыбкой наблюдал за своим соседом, свист прекратился, и публика захохотала, как бы обезоруженная этим возгласом; а молодые люди в белых перчатках громко захлопали, млея от восторга при виде округлых форм Нана:
– Прелестно! Превосходно! Браво!
А Нана, увидев, что зал хохочет, тоже расхохоталась. Все окончательно развеселились. Эта красотка и впрямь забавная. Когда она смеялась, на подбородке у нее виднелась очаровательная ямочка. Она переждала взрыв веселья, ничуть не смутившись, сразу же освоившись на сцене; казалось даже, она подмаргивает публике, как бы говоря, что таланта у нее действительно ни на грош, что она не тем, мол, берет. И, махнув дирижеру рукой, как бы говоря: «А ну, давай, дружок!» – она затянула второй куплет:
Когда Венера в час ночной…
Пела она все тем же пронзительным голосом, но теперь голос этот задевал как раз те струны, которые требуется, чтобы бросить публику в легкую дрожь. Нана по-прежнему откровенно смеялась, смех порхал на ее ярко-красных губах и зажигал озорные огоньки в огромных светло-лазоревых глазах. В чересчур игривых местах она плотоядно морщила носик, розовые ноздри ее раздувались, а щеки заливал румянец. Она все так же нелепо раскачивалась всем телом, видимо, ничего другого она на сцене делать не умела. Но теперь это покачивание уже не казалось публике таким неуклюжим, напротив: мужчины не отрывали от сцены биноклей. Когда Нана заканчивала свои куплеты, ей совсем изменил голос, и она сама поняла, что ей ни за что не допеть арию до конца. Тогда, ничуть не тревожась, она вильнула бедром, обнаружив его приятную округлость сквозь прозрачную тунику, выставила грудь, закинула голову, а обе руки протянула вперед. Раздались аплодисменты. И сразу же Нана повернулась к залу спиной и направилась за кулисы, показав публике гриву рыжих волос, вольно рассыпавшихся по спине, – и весь зал разразился рукоплесканиями.
Конец первого акта был встречен с холодком. Вулкан хотел надавать Венере пощечин. Боги собрались на совет и постановили самолично провести на Земле обследование, а уж потом дать ход жалобе обманутых мужей. Но тут Диана, подслушав, как воркуют в стороне Венера с Марсом, клянется, что во время всего путешествия будет зорко следить за влюбленной парой. Была здесь также сцена Амура, которого играла девчушка лет двенадцати; на все вопросы Амур, ковыряя в носу, плаксиво твердил: «Да, мамаша… Нет, мамаша». Вслед за тем Юпитер, неумолимый, как школьный учитель, засадил Амура в карцер, велев ему проспрягать двадцать раз подряд глагол «любить». Конец акта понравился больше, хор и оркестр провели его с блеском. Но когда занавес упал, несмотря на все старания клаки, вызывавшей актеров, публика дружно поднялась с мест и направилась к дверям.
Зрители с трудом пробирались сквозь ряды кресел, толкая соседей, обмениваясь впечатлениями. Во всех уголках залы слышалось:
– Экая ерунда!
Театральный критик заявил, что без купюр, и немалых, не обойтись. Впрочем, бог с ней, с пьесой; все разговоры вертелись главным образом вокруг Нана. Фошри и Ла Фалуаз, которым удалось выбраться из зала в числе первых, столкнулись в коридоре партера со Штейнером и Миньоном. В этом узком, длинном, как кишка, и низком, как штольня, помещении, освещенном тусклым светом газовых рожков, можно было задохнуться. Кузены остановились передохнуть справа у лестницы, укрывшись за полукругом перил. Сверху беспрерывным потоком спускались посетители галерки, размеренно топая грубыми башмаками, вслед за ними проплыла волна черных фраков; билетерша, стиснутая со всех сторон, старалась загородить стул, на который она складывала пальто.
– Да я же ее знаю! – еще издали закричал Штейнер, заметив Фошри. – Клянусь, я где-то ее видел… По-моему, в Казино, она до того напилась, что ее пришлось вывести.
– Лично я поклясться не могу, – подхватил журналист, – но и у меня, представьте, такое впечатление, что я ее где-то видел.
И, понизив голос, он с улыбкой добавил:
– Уж не у Триконши ли?
– В этом мерзком вертепе? Это уж черт знает что! – взорвался Миньон, терпение которого окончательно истощилось. – Тошно смотреть, как публика встречает первую попавшуюся шлюху. Скоро так в театре ни одной порядочной женщины не останется, кончится тем, что я запрещу Розе играть, именно запрещу.
Фошри не мог сдержать улыбки. А топот ног в грубых башмаках все еще заполнял лестницу, с верхней до нижней ступеньки; какой-то коротышка в каскетке объявил во всеуслышание, забавно растягивая слова:
– Пышка-то преаппетитная! Так бы ее и съел.
В коридоре сцепились два молоденьких франтика с мелко завитыми волосами, вполне корректно одетые, в воротничках с отогнутыми кончиками. Один твердил: «Гадость! Гадость!», не давая себе труда пояснить свою мысль, другой отвечал ему в тон: «Прелесть! Прелесть!», тоже не снисходя до более пространных объяснений.
Ла Фалуаз нашел, что Нана весьма мила, но, добавил он осторожно, была бы еще лучше, если бы поработала над голосом. Тут Штейнер, который пропустил всю беседу мимо ушей, вдруг словно очнулся ото сна. Впрочем, подождем выносить суждение. Возможно, следующие акты испортят все. Публика, конечно, слушала снисходительно, но пока спектакль ее не захватил. Миньон клялся, что зрители все равно не досмотрят премьеру до конца, и, так как Фошри и Ла Фалуаз отправились в фойе, он взял Штейнера за руку и шепнул, навалившись ему на плечо:
– А теперь, дружок, вам необходимо посмотреть костюм моей жены для второго акта. Да, пикантненько получилось!
В верхнем фойе ярко горели три хрустальных люстры. Кузены на минуту замешкались: сквозь обшарпанные застекленные двери виднелось волнующееся море голов, которое двумя встречными потоками беспрерывно омывало галерею. Однако они решились войти. Пять-шесть групп мужчин, оживленно беседовавших, сопровождая свои слова широкими взмахами рук, стойко держались среди этой толчеи; все прочие покорно шагали в затылок друг другу бесконечной цепочкой, круто заворачивая в концах галереи и царапая навощенный паркет каблуками. Справа и слева меж колонн крапчатого мрамора на обитых алым бархатом скамейках восседали дамы, как видно совсем разомлевшие от жары, и с усталым видом поглядывали на перекатывавшуюся перед ними людскую волну; высокие зеркала за их спиной послушно отражали затейливые шиньоны. На другом конце галереи какой-то толстяк пил у буфетной стойки сироп.
Но Фошри, желая подышать свежим воздухом, вышел на балкон. Ла Фалуаз начал было изучать фотографии актрис, развешанные между зеркалами за рядом колонн, но потом последовал за кузеном. Только что потушили газовые фонари над входом в театр. На балконе, где было совсем темно и прохладно, казалось, нет никого, но вдруг они заметили в правом углу какого-то молодого человека; опершись о каменную балюстраду, он курил, и кончик его сигареты алел во мраке. Фошри узнал Дагне. Они обменялись рукопожатиями.
– Что вы здесь поделываете, дорогой? – спросил журналист. – Прячетесь по укромным уголкам, хотя, насколько мне известно, в дни премьер вас из партера не выманишь.
– Как видите, курю, – отозвался Дагне.
Фошри вдруг захотелось его подразнить;
– Ну, а что вы скажете о новой дебютантке? В кулуарах о ней отзываются не особенно хорошо.
– Очевидно, отзываются мужчины, которых она отвергла! – пробормотал Дагне.
Больше он о талантах Нана не распространялся. Перегнувшись через перила, Ла Фалуаз посмотрел на бульвар. Прямо напротив горели ярко освещенные окна какого-то отеля и клуба; а на тротуаре за столиками кафе «Мадрид» густо плечом к плечу сидели посетители. Хотя время было уже позднее, толпа не убывала; прохожим приходилось замедлять шаг, из дверей пассажа Жофруа непрерывным потоком лились люди; пешеходы по несколько минут ждали, прежде чем им удавалось перейти на другую сторону, так как экипажи тянулись теперь непрерывной вереницей.
– Какое движение! Какой шум! – повторял Ла Фалуаз, все еще не переставший дивиться Парижу.
Раздалось продолжительное треньканье звонка, фойе опустело. Люди бросились в кулуары. Занавес подняли, а публика все еще валом валила в зал, к негодованию зрителей, уже успевших усесться. Каждый спешил занять свое место, и на всех лицах застыло оживленно-внимательное выражение. Войдя в зал, Ла Фалуаз первым делом кинул взгляд на Гага; но обомлел, увидев рядом с ней того самого высокого блондина, который только что сидел в литерной ложе Люси.
– Как, ты говоришь, зовут этого господина? – спросил он.
Фошри не сразу разглядел того, о ком шла речь.
– Да это же Лабордет, – наконец сказал он, все так же беспечно махнув рукой.
Декорация второго акта произвела эффект. Сцена представляла знаменитый кабачок «Черный шар» у парижской заставы в самый разгар масленичного карнавала; маски затянули застольную песню, постукивая в такт каблуками. Эта неожиданная озорная выдумка развеселила публику, и она потребовала повторить номер. И вот здесь-то вся орава богов, заплутавшаяся по вине Ириды, которая без зазрения совести хвалилась, будто знает Землю вдоль и поперек, решила провести свое обследование. Желая сохранить инкогнито, боги нарядились в маскарадные костюмы. Юпитер оделся под короля Дагобера, – штаны наизнанку, огромная железная корона; Феб появился в костюме почтальона из Лонжюмо, а Минерва в костюме нормандской кормилицы. Выход Марса, вырядившегося в нелепый костюм швейцарского адмирала, вызвал взрыв всеобщего веселья. Но когда появился, шаркая туфлями, Нептун в блузе и высокой каскетке со вздутым верхом, с прилизанными височками и произнес жирным голосом: «Ничего не попишешь, нам, красавцам, отбою от женщин нет!» – раздался утробный хохот. Послышались возгласы: «Ого-го!», а дамы чуть прикрывались веерами. Люси в своей литерной ложе заливалась таким громким смехом, что Каролине пришлось легонько стукнуть ее по плечу веером.
Итак, пьеса была спасена, все почувствовали, что ее ждет огромный успех. Публике пришелся по вкусу этот карнавальный пляс небожителей, этот втоптанный в грязь Олимп, поругание целого мира религии и целого мира поэзии. Высокообразованные господа, завзятые посетители премьер, упивались этим посягновением на святая святых. Здесь попиралась ногами легенда, здесь разбивали в прах образы древности. Юпитер был простак, Марс – полоумный, королевская власть становилась фарсом, армия – предметом зубоскальства. Когда Юпитер, с первого взгляда влюбившийся в молоденькую прачку, которую играла Симона, начал лихо отплясывать канкан, а Симона, задирая ноги к самому носу владыки богов, презабавно восклицала: «Папашка-толстячок», – бешеный хохот овладевал залом. Пока шли танцы, Феб поил из салатницы Минерву подогретым вином, а Нептун царил в обществе семи-восьми девиц, наперебой угощавших его пирожными. Зал на лету ловил намеки и изощрялся в непристойностях; самые невинные слова становились скабрезными в устах зрителей, сидевших в партере. Уже давно театральной публике не доводилось так сладко поваляться в бессмысленно непочтительном шутовстве. И это было отдохновением.
Тем временем действие продолжалось среди все тех же дурацких шуточек. Вулкан в обличье светского щеголя, в желтой паре, в желтых перчатках и с моноклем в глазу по-прежнему вертелся вокруг Венеры, которая на сей раз вышла в костюме рыночной торговки с косыночкой на голове, а на ее пышной груди блистала огромная золотая брошь. Нана, такая беленькая, такая пухленькая, была словно создана для роли, где требуются лишь мощные бедра и столь же мощная глотка; она сразу покорила зал. Ради нее публика забыла Розу Миньон – прелестное бебе в коротеньком муслиновом кринолинчике, очень мило проворковавшее жалобу Дианы. От той, другой, рослой девки, которая звонко хлопала себя по ляжкам и кудахтала, словно курица, исходил аромат самой жизни, извечной женской силы, кружившей зрителям головы. Со второго действия все ей прощалось: и неумение держаться на сцене, и то, что она не могла взять ни одной ноты, и незнание текста; стоило ей только повернуться и захохотать, как со всех сторон неслось «браво!». Когда же она повторяла свое знаменитое вихляющее движение бедрами, партер воспламенялся. Жаркая волна передавалась от яруса к ярусу, застывая где-то под самым потолком. Сцена в кабачке превратилась в триумф Нана. Тут уж она была в своей родной стихии, эта канаворожденная Венера, Венера панелей, с кулаками, упертыми в бока. Да и музыка, казалось, была создана для голоса этой дочери предместий, разухабистая музыка, с какой расходятся после ярмарки в Сен-Клу, – пронзительно чихает кларнет, взвизгивает флейта пикколо.
По требованию публики повторили два номера. Вновь прозвучал вальс из увертюры, тот самый вальс в игриво-шутовском ритме, и боги пустились в пляс. Юнона, наряженная фермершей, застигла Юпитера с прачкой и надавала ему пощечин. Диана, подслушав, как Венера назначает свидание Марсу, поспешила донести о часе и месте встречи Вулкану, который воскликнул: «Я знаю, что делать!» Продолжение было довольно туманно. Обследование закончилось финальным галопом, и Юпитер, задохнувшийся от пляса, весь в поту, без короны, которую он успел где-то потерять, заявил, что земные дамочки просто прелесть и во всем виноваты сами мужья.
Занавес упал под крики «браво!», заглушаемые хором голосов, вопивших:
– Всех! Всех!
Тогда занавес подняли еще раз, вышли актеры, держась за руки. Стоявшие в центре бок о бок Нана и Роза Миньон делали публике реверансы. Зрители хлопали, клакеры не скупились на восторженные крики. Потом публика стала медленно покидать зал.
– Пойду поздороваюсь с графиней Мюффа, – заявил Ла Фалуаз.
– Чудесно, и меня заодно представишь, – одобрил Фошри. – Немножко подождем и отправимся.
Но пробраться к ложам балкона оказалось не так-то просто. В верхнем кулуаре стояла невообразимая давка. Проталкиваясь сквозь густую толпу, приходилось то и дело сторониться, скользить ужом, энергично действовать локтями. Критик-толстяк, прислонившись к стене в луче света, падавшем от медной лампы, разбирал перед кружком внимательных слушателей достоинства и недостатки пьесы. Проходившие мимо называли вполголоса его фамилию. В кулуарах утверждали, что он прохохотал весь второй акт; однако теперь он судил о пьесе весьма сурово, взывая к морали и законам вкуса. Чуть подальше другой критик, тонкогубый, высказывался с полной благожелательностью, которая, впрочем, отдавала кислинкой, словно начавшее портиться молоко.
Фошри поочередно заглядывал во все ложи сквозь круглые окошечки, проделанные в дверях. Но это занятие прервал граф де Вандевр, обратившийся к нему с вопросом, и, узнав, что кузены идут засвидетельствовать свое почтение супругам Мюффа, пояснил, что их ложа седьмая и что сам он оттуда. Потом, нагнувшись к журналисту, тихонько шепнул ему на ухо:
Следующая сцена показалась публике бесконечно растянутой. Юпитер никак не мог собрать совет богов, дабы обсудить петицию рогоносцев. А Нана так и не появлялась. Неужели ее выпустят на сцену только под занавес? Это бесконечно долгое ожидание стало раздражать публику. Снова послышался шепот.
– Дело плохо, – твердил, сияя, Миньон банкиру Штейнеру. – Зря публику заманивают!
В эту самую минуту облака в глубине сцены раздвинулись, и показалась Венера. Нана, очень рослая, очень дородная для своих восемнадцати лет, в белой тунике, как и положено небожительнице, с распущенными по плечам без всяких ухищрений длинными белокурыми волосами, спокойно и самоуверенно приблизилась к рампе, улыбнулась публике. И завела свою выходную арию:
Однажды вечерком Венера…
Когда певица начала второй куплет, весь зал удивленно переглянулся. Что это, шутка, новая блажь Борденава, или он просто побился с кем-нибудь об заклад? Никогда еще на театральных подмостках не звучал такой фальшивый голос, выдававший полное отсутствие школы. Прав был директор Варьете, заявив, что она поет, как драная кошка. И к тому же не умеет даже держаться на сцене, нелепо выбрасывает вперед руки, покачивается всем телом, что, во-первых, малопристойно, а во-вторых, просто неизящно. В креслах уже послышалось возмущенное «о! о!», уже засвистели на приставных местах, как вдруг в партере раздался чей-то ломающийся, как у молодого петушка, голос.
– Шикарно! – провозгласил говоривший с непоколебимой убежденностью.
Весь зал уставился на смельчака. Им оказался тот самый херувимчик, школяр, улизнувший из коллежа; он таращил на Нана свои красивые глаза, его окаймленное белокурыми локонами лицо разгорелось. Заметив, что все бинокли и взоры устремились на него, он побагровел от стыда, сообразив только сейчас, что кричал во все горло. Дагне с улыбкой наблюдал за своим соседом, свист прекратился, и публика захохотала, как бы обезоруженная этим возгласом; а молодые люди в белых перчатках громко захлопали, млея от восторга при виде округлых форм Нана:
– Прелестно! Превосходно! Браво!
А Нана, увидев, что зал хохочет, тоже расхохоталась. Все окончательно развеселились. Эта красотка и впрямь забавная. Когда она смеялась, на подбородке у нее виднелась очаровательная ямочка. Она переждала взрыв веселья, ничуть не смутившись, сразу же освоившись на сцене; казалось даже, она подмаргивает публике, как бы говоря, что таланта у нее действительно ни на грош, что она не тем, мол, берет. И, махнув дирижеру рукой, как бы говоря: «А ну, давай, дружок!» – она затянула второй куплет:
Когда Венера в час ночной…
Пела она все тем же пронзительным голосом, но теперь голос этот задевал как раз те струны, которые требуется, чтобы бросить публику в легкую дрожь. Нана по-прежнему откровенно смеялась, смех порхал на ее ярко-красных губах и зажигал озорные огоньки в огромных светло-лазоревых глазах. В чересчур игривых местах она плотоядно морщила носик, розовые ноздри ее раздувались, а щеки заливал румянец. Она все так же нелепо раскачивалась всем телом, видимо, ничего другого она на сцене делать не умела. Но теперь это покачивание уже не казалось публике таким неуклюжим, напротив: мужчины не отрывали от сцены биноклей. Когда Нана заканчивала свои куплеты, ей совсем изменил голос, и она сама поняла, что ей ни за что не допеть арию до конца. Тогда, ничуть не тревожась, она вильнула бедром, обнаружив его приятную округлость сквозь прозрачную тунику, выставила грудь, закинула голову, а обе руки протянула вперед. Раздались аплодисменты. И сразу же Нана повернулась к залу спиной и направилась за кулисы, показав публике гриву рыжих волос, вольно рассыпавшихся по спине, – и весь зал разразился рукоплесканиями.
Конец первого акта был встречен с холодком. Вулкан хотел надавать Венере пощечин. Боги собрались на совет и постановили самолично провести на Земле обследование, а уж потом дать ход жалобе обманутых мужей. Но тут Диана, подслушав, как воркуют в стороне Венера с Марсом, клянется, что во время всего путешествия будет зорко следить за влюбленной парой. Была здесь также сцена Амура, которого играла девчушка лет двенадцати; на все вопросы Амур, ковыряя в носу, плаксиво твердил: «Да, мамаша… Нет, мамаша». Вслед за тем Юпитер, неумолимый, как школьный учитель, засадил Амура в карцер, велев ему проспрягать двадцать раз подряд глагол «любить». Конец акта понравился больше, хор и оркестр провели его с блеском. Но когда занавес упал, несмотря на все старания клаки, вызывавшей актеров, публика дружно поднялась с мест и направилась к дверям.
Зрители с трудом пробирались сквозь ряды кресел, толкая соседей, обмениваясь впечатлениями. Во всех уголках залы слышалось:
– Экая ерунда!
Театральный критик заявил, что без купюр, и немалых, не обойтись. Впрочем, бог с ней, с пьесой; все разговоры вертелись главным образом вокруг Нана. Фошри и Ла Фалуаз, которым удалось выбраться из зала в числе первых, столкнулись в коридоре партера со Штейнером и Миньоном. В этом узком, длинном, как кишка, и низком, как штольня, помещении, освещенном тусклым светом газовых рожков, можно было задохнуться. Кузены остановились передохнуть справа у лестницы, укрывшись за полукругом перил. Сверху беспрерывным потоком спускались посетители галерки, размеренно топая грубыми башмаками, вслед за ними проплыла волна черных фраков; билетерша, стиснутая со всех сторон, старалась загородить стул, на который она складывала пальто.
– Да я же ее знаю! – еще издали закричал Штейнер, заметив Фошри. – Клянусь, я где-то ее видел… По-моему, в Казино, она до того напилась, что ее пришлось вывести.
– Лично я поклясться не могу, – подхватил журналист, – но и у меня, представьте, такое впечатление, что я ее где-то видел.
И, понизив голос, он с улыбкой добавил:
– Уж не у Триконши ли?
– В этом мерзком вертепе? Это уж черт знает что! – взорвался Миньон, терпение которого окончательно истощилось. – Тошно смотреть, как публика встречает первую попавшуюся шлюху. Скоро так в театре ни одной порядочной женщины не останется, кончится тем, что я запрещу Розе играть, именно запрещу.
Фошри не мог сдержать улыбки. А топот ног в грубых башмаках все еще заполнял лестницу, с верхней до нижней ступеньки; какой-то коротышка в каскетке объявил во всеуслышание, забавно растягивая слова:
– Пышка-то преаппетитная! Так бы ее и съел.
В коридоре сцепились два молоденьких франтика с мелко завитыми волосами, вполне корректно одетые, в воротничках с отогнутыми кончиками. Один твердил: «Гадость! Гадость!», не давая себе труда пояснить свою мысль, другой отвечал ему в тон: «Прелесть! Прелесть!», тоже не снисходя до более пространных объяснений.
Ла Фалуаз нашел, что Нана весьма мила, но, добавил он осторожно, была бы еще лучше, если бы поработала над голосом. Тут Штейнер, который пропустил всю беседу мимо ушей, вдруг словно очнулся ото сна. Впрочем, подождем выносить суждение. Возможно, следующие акты испортят все. Публика, конечно, слушала снисходительно, но пока спектакль ее не захватил. Миньон клялся, что зрители все равно не досмотрят премьеру до конца, и, так как Фошри и Ла Фалуаз отправились в фойе, он взял Штейнера за руку и шепнул, навалившись ему на плечо:
– А теперь, дружок, вам необходимо посмотреть костюм моей жены для второго акта. Да, пикантненько получилось!
В верхнем фойе ярко горели три хрустальных люстры. Кузены на минуту замешкались: сквозь обшарпанные застекленные двери виднелось волнующееся море голов, которое двумя встречными потоками беспрерывно омывало галерею. Однако они решились войти. Пять-шесть групп мужчин, оживленно беседовавших, сопровождая свои слова широкими взмахами рук, стойко держались среди этой толчеи; все прочие покорно шагали в затылок друг другу бесконечной цепочкой, круто заворачивая в концах галереи и царапая навощенный паркет каблуками. Справа и слева меж колонн крапчатого мрамора на обитых алым бархатом скамейках восседали дамы, как видно совсем разомлевшие от жары, и с усталым видом поглядывали на перекатывавшуюся перед ними людскую волну; высокие зеркала за их спиной послушно отражали затейливые шиньоны. На другом конце галереи какой-то толстяк пил у буфетной стойки сироп.
Но Фошри, желая подышать свежим воздухом, вышел на балкон. Ла Фалуаз начал было изучать фотографии актрис, развешанные между зеркалами за рядом колонн, но потом последовал за кузеном. Только что потушили газовые фонари над входом в театр. На балконе, где было совсем темно и прохладно, казалось, нет никого, но вдруг они заметили в правом углу какого-то молодого человека; опершись о каменную балюстраду, он курил, и кончик его сигареты алел во мраке. Фошри узнал Дагне. Они обменялись рукопожатиями.
– Что вы здесь поделываете, дорогой? – спросил журналист. – Прячетесь по укромным уголкам, хотя, насколько мне известно, в дни премьер вас из партера не выманишь.
– Как видите, курю, – отозвался Дагне.
Фошри вдруг захотелось его подразнить;
– Ну, а что вы скажете о новой дебютантке? В кулуарах о ней отзываются не особенно хорошо.
– Очевидно, отзываются мужчины, которых она отвергла! – пробормотал Дагне.
Больше он о талантах Нана не распространялся. Перегнувшись через перила, Ла Фалуаз посмотрел на бульвар. Прямо напротив горели ярко освещенные окна какого-то отеля и клуба; а на тротуаре за столиками кафе «Мадрид» густо плечом к плечу сидели посетители. Хотя время было уже позднее, толпа не убывала; прохожим приходилось замедлять шаг, из дверей пассажа Жофруа непрерывным потоком лились люди; пешеходы по несколько минут ждали, прежде чем им удавалось перейти на другую сторону, так как экипажи тянулись теперь непрерывной вереницей.
– Какое движение! Какой шум! – повторял Ла Фалуаз, все еще не переставший дивиться Парижу.
Раздалось продолжительное треньканье звонка, фойе опустело. Люди бросились в кулуары. Занавес подняли, а публика все еще валом валила в зал, к негодованию зрителей, уже успевших усесться. Каждый спешил занять свое место, и на всех лицах застыло оживленно-внимательное выражение. Войдя в зал, Ла Фалуаз первым делом кинул взгляд на Гага; но обомлел, увидев рядом с ней того самого высокого блондина, который только что сидел в литерной ложе Люси.
– Как, ты говоришь, зовут этого господина? – спросил он.
Фошри не сразу разглядел того, о ком шла речь.
– Да это же Лабордет, – наконец сказал он, все так же беспечно махнув рукой.
Декорация второго акта произвела эффект. Сцена представляла знаменитый кабачок «Черный шар» у парижской заставы в самый разгар масленичного карнавала; маски затянули застольную песню, постукивая в такт каблуками. Эта неожиданная озорная выдумка развеселила публику, и она потребовала повторить номер. И вот здесь-то вся орава богов, заплутавшаяся по вине Ириды, которая без зазрения совести хвалилась, будто знает Землю вдоль и поперек, решила провести свое обследование. Желая сохранить инкогнито, боги нарядились в маскарадные костюмы. Юпитер оделся под короля Дагобера, – штаны наизнанку, огромная железная корона; Феб появился в костюме почтальона из Лонжюмо, а Минерва в костюме нормандской кормилицы. Выход Марса, вырядившегося в нелепый костюм швейцарского адмирала, вызвал взрыв всеобщего веселья. Но когда появился, шаркая туфлями, Нептун в блузе и высокой каскетке со вздутым верхом, с прилизанными височками и произнес жирным голосом: «Ничего не попишешь, нам, красавцам, отбою от женщин нет!» – раздался утробный хохот. Послышались возгласы: «Ого-го!», а дамы чуть прикрывались веерами. Люси в своей литерной ложе заливалась таким громким смехом, что Каролине пришлось легонько стукнуть ее по плечу веером.
Итак, пьеса была спасена, все почувствовали, что ее ждет огромный успех. Публике пришелся по вкусу этот карнавальный пляс небожителей, этот втоптанный в грязь Олимп, поругание целого мира религии и целого мира поэзии. Высокообразованные господа, завзятые посетители премьер, упивались этим посягновением на святая святых. Здесь попиралась ногами легенда, здесь разбивали в прах образы древности. Юпитер был простак, Марс – полоумный, королевская власть становилась фарсом, армия – предметом зубоскальства. Когда Юпитер, с первого взгляда влюбившийся в молоденькую прачку, которую играла Симона, начал лихо отплясывать канкан, а Симона, задирая ноги к самому носу владыки богов, презабавно восклицала: «Папашка-толстячок», – бешеный хохот овладевал залом. Пока шли танцы, Феб поил из салатницы Минерву подогретым вином, а Нептун царил в обществе семи-восьми девиц, наперебой угощавших его пирожными. Зал на лету ловил намеки и изощрялся в непристойностях; самые невинные слова становились скабрезными в устах зрителей, сидевших в партере. Уже давно театральной публике не доводилось так сладко поваляться в бессмысленно непочтительном шутовстве. И это было отдохновением.
Тем временем действие продолжалось среди все тех же дурацких шуточек. Вулкан в обличье светского щеголя, в желтой паре, в желтых перчатках и с моноклем в глазу по-прежнему вертелся вокруг Венеры, которая на сей раз вышла в костюме рыночной торговки с косыночкой на голове, а на ее пышной груди блистала огромная золотая брошь. Нана, такая беленькая, такая пухленькая, была словно создана для роли, где требуются лишь мощные бедра и столь же мощная глотка; она сразу покорила зал. Ради нее публика забыла Розу Миньон – прелестное бебе в коротеньком муслиновом кринолинчике, очень мило проворковавшее жалобу Дианы. От той, другой, рослой девки, которая звонко хлопала себя по ляжкам и кудахтала, словно курица, исходил аромат самой жизни, извечной женской силы, кружившей зрителям головы. Со второго действия все ей прощалось: и неумение держаться на сцене, и то, что она не могла взять ни одной ноты, и незнание текста; стоило ей только повернуться и захохотать, как со всех сторон неслось «браво!». Когда же она повторяла свое знаменитое вихляющее движение бедрами, партер воспламенялся. Жаркая волна передавалась от яруса к ярусу, застывая где-то под самым потолком. Сцена в кабачке превратилась в триумф Нана. Тут уж она была в своей родной стихии, эта канаворожденная Венера, Венера панелей, с кулаками, упертыми в бока. Да и музыка, казалось, была создана для голоса этой дочери предместий, разухабистая музыка, с какой расходятся после ярмарки в Сен-Клу, – пронзительно чихает кларнет, взвизгивает флейта пикколо.
По требованию публики повторили два номера. Вновь прозвучал вальс из увертюры, тот самый вальс в игриво-шутовском ритме, и боги пустились в пляс. Юнона, наряженная фермершей, застигла Юпитера с прачкой и надавала ему пощечин. Диана, подслушав, как Венера назначает свидание Марсу, поспешила донести о часе и месте встречи Вулкану, который воскликнул: «Я знаю, что делать!» Продолжение было довольно туманно. Обследование закончилось финальным галопом, и Юпитер, задохнувшийся от пляса, весь в поту, без короны, которую он успел где-то потерять, заявил, что земные дамочки просто прелесть и во всем виноваты сами мужья.
Занавес упал под крики «браво!», заглушаемые хором голосов, вопивших:
– Всех! Всех!
Тогда занавес подняли еще раз, вышли актеры, держась за руки. Стоявшие в центре бок о бок Нана и Роза Миньон делали публике реверансы. Зрители хлопали, клакеры не скупились на восторженные крики. Потом публика стала медленно покидать зал.
– Пойду поздороваюсь с графиней Мюффа, – заявил Ла Фалуаз.
– Чудесно, и меня заодно представишь, – одобрил Фошри. – Немножко подождем и отправимся.
Но пробраться к ложам балкона оказалось не так-то просто. В верхнем кулуаре стояла невообразимая давка. Проталкиваясь сквозь густую толпу, приходилось то и дело сторониться, скользить ужом, энергично действовать локтями. Критик-толстяк, прислонившись к стене в луче света, падавшем от медной лампы, разбирал перед кружком внимательных слушателей достоинства и недостатки пьесы. Проходившие мимо называли вполголоса его фамилию. В кулуарах утверждали, что он прохохотал весь второй акт; однако теперь он судил о пьесе весьма сурово, взывая к морали и законам вкуса. Чуть подальше другой критик, тонкогубый, высказывался с полной благожелательностью, которая, впрочем, отдавала кислинкой, словно начавшее портиться молоко.
Фошри поочередно заглядывал во все ложи сквозь круглые окошечки, проделанные в дверях. Но это занятие прервал граф де Вандевр, обратившийся к нему с вопросом, и, узнав, что кузены идут засвидетельствовать свое почтение супругам Мюффа, пояснил, что их ложа седьмая и что сам он оттуда. Потом, нагнувшись к журналисту, тихонько шепнул ему на ухо: