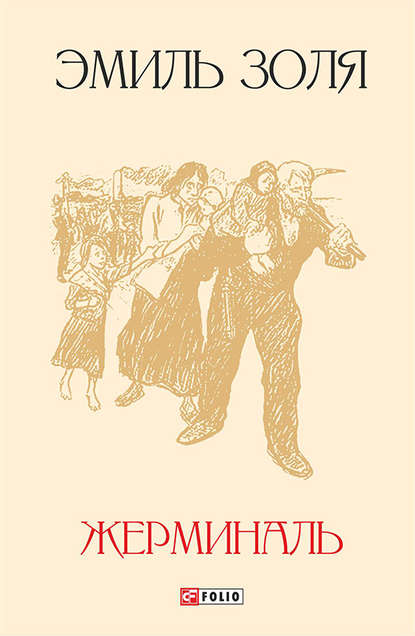По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жерминаль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Катрина мучительно силилась стряхнуть дремоту. Она потягивалась и теребила обеими руками свои рыжие волосы, растрепавшиеся на лбу и на затылке. Девушка казалась очень хрупкой для своих пятнадцати лет; из-под узкой сорочки виднелись только ноги, посиневшие и как бы татуированные углем, и нежные руки, молочная белизна которых резко отличалась от мертвенно-бледного лица, уже успевшего увянуть от постоянного умывания черным мылом. Она зевнула в последний раз – рот с великолепными зубами и бледными, бескровными деснами был у нее чуть-чуть велик, – слезы проступили на серых невыспавшихся глазах, измученных и скорбных, и все ее обнаженное тело, казалось, было полно усталости.
С лестницы послышалось ворчание; сердитый голос Маэ пробормотал:
– Черт возьми! Самая пора… Это ты засветила, Катрина?
– Да, отец… Внизу только что пробило.
– Попроворнее, бездельница! Кабы ты вчера поменьше плясала, то и разбудила бы нас пораньше… Лентяи!
Он продолжал браниться; но сон опять одолел его, ворчание прекратилось, и снова послышался храп.
Девушка стала босыми ногами на пол и, как была, в одной сорочке, принялась расхаживать по комнате. Проходя мимо кровати Анри и Леноры, она накинула на них соскользнувшее одеяло; они крепко спали, как спят в детстве, и не пошевельнулись. Альзира, с открытыми глазами, не говоря ни слова, перелегла на теплое место старшей сестры.
– Эй, Захария! И ты, Жанлен! – повторяла Катрина перед кроватью братьев; они лежали лицом вниз, уткнувшись в подушку.
Ей пришлось схватить старшего брата за плечо и потрясти его, – тот начал ругаться; тогда она стянула с них одеяло. Это развеселило ее, и она засмеялась, глядя, как мальчики отбивались голыми ногами.
– Оставь глупости! – недовольно ворчал Захария, садясь на постели. – Не люблю я таких проделок… Господи, как вставать не хочется…
Тощий, неуклюжий, с длинным лицом и реденькой бородкой, с белесыми волосами, он казался малокровным, как и вся семья. Рубашка задралась у него до живота, и он ее одернул, но не от стыдливости, а потому что продрог.
– Внизу уже пробило четыре, – повторила Катрина. – Живей, ну! Отец сердится…
Жанлен, свернувшийся клубком, опять закрыл глаза:
– Отстань, я сплю!
Девушка звонко расхохоталась. Жанлен был такой маленький, его тонкие руки и ноги распухли в суставах от золотухи. Катрина легко подняла его на руки; мальчик стал бить ее ногами, и его бесцветное обезьянье лицо, обрамленное шапкой курчавых волос, с зелеными глазами и большими ушами побледнело от злости; его сердило, что он такой хилый. Он изловчился и укусил сестру в грудь.
– Злюка! – проговорила она рассерженно и опустила его на пол.
Альзира тоже проснулась, но лежала молча, натянув одеяло до подбородка, и больше не засыпала. Она следила умными глазами за сестрой и обоими братьями, которые стали одеваться. Теперь ссора вспыхнула возле умывальной миски; братья толкали и отгоняли сестру – та слишком долго мылась. Скинув рубашки, еще не вполне проснувшись, они отправляли свои надобности, нисколько не стыдясь, непринужденно и спокойно, как щенята, выросшие вместе. Катрина собралась первой. Она надела штаны углекопа, холщовую блузу, синий чепец на голову; в рабочей одежде она казалась мальчиком-подростком, только легкое покачивание бедрами выдавало ее пол.
– Когда старик вернется, – злобно проговорил Захария, – постель совсем остынет; то-то он будет ворчать… А я ему скажу, что это ты ее выстудила.
«Старик» – то есть дед Бессмертный. Ночью он работал, а днем спал, так что постель никогда не остывала: на ней всегда кто-нибудь храпел.
Катрина, не отвечая, подняла одеяло и прибрала постель. За стеною послышался шум из соседнего дома. В этих кирпичных домиках, построенных компанией с соблюдением величайшей экономии, стены были так тонки, что сквозь них проникал малейший шум. Люди во всем поселке теснились бок о бок; ничто из домашней жизни не могло быть скрыто, даже от детей. По лестнице раздались тяжелые шаги, потом послышалось падение чего-то мягкого и затем – вздох наслаждения.
– Недурно! – сказала Катрина. – Левак вышел, а к его жене заявился Бутлу.
Жанлен захихикал, даже у Альзиры заблестели глаза. Они каждое утро потешались над этим соседским супружеством втроем: у забойщика жил на квартире ремонтный рабочий, и у женщины оказалось два мужа – один ночной, другой дневной.
– Филомена кашляет, – заметила Катрина.
Она говорила о старшей дочери Левака – девятнадцатилетней девушке, любовнице Захарии, которая уже прижила от него двоих детей; она была слабогруда и состояла сортировщицей, так как не могла работать под землею.
– Пустяки! – возразил Захария. – Филомена и знать ничего не хочет, спит себе!.. Свинство – спать до шести часов!
Он надел штаны, потом отворил окно, словно что-то задумав. Поселок просыпался, в прорезах ставней замелькали огни. Брат и сестра снова заспорили: Захария высунулся, чтобы подстеречь, не выйдет ли из дома Пьерронов, что напротив, старший надзиратель. Говорили – он живет с женою Пьеррона; Катрина же уверяла, что Пьеррон накануне заступил на очередное дневное дежурство по загрузке, и Дансарт поэтому никак не мог сегодня там ночевать. В комнату проникал холодный воздух, но брат и сестра были слишком увлечены спором: они этого даже не почувствовали, каждый отстаивал правильность своих догадок. Но вдруг раздались крики и плач: Эстелла озябла в своей люльке.
Маэ сразу проснулся. Почему он так обессилел? Вот, опять заснул, как настоящий бездельник… И он стал так браниться, что дети притихли. Захария и Жанлен закончили умываться и как бы утихомирились. Альзира все лежала с широко раскрытыми глазами. Двое младших – Ленора и Анри, – обняв друг друга, не пошевельнулись и спали по-прежнему, несмотря на шум, тихо дыша во сне.
– Катрина, подай свечу! – крикнул Маэ.
Она застегнула блузу и понесла свечу в лестничный проход. Братья продолжали разыскивать свою одежду при скудном свете, проникавшем в дверь. Отец вскочил с постели. Не останавливаясь, Катрина спустилась ощупью по лестнице, как была, в грубых шерстяных чулках, и в нижней комнате зажгла другую свечу, чтобы сварить кофе. Вся обувь стояла под буфетом.
– Замолчи, гаденыш! – вспылил Маэ, выведенный из себя криками Эстеллы, которая все не унималась.
Он был приземистый, как и старик Бессмертный, с крупной головой, с плоским бледным лицом; белесые волосы были коротко острижены. Ребенок, перепугавшись, заорал еще громче, когда отец принялся размахивать над ним своими огромными жилистыми руками.
– Оставь ее, ведь знаешь, что она не уймется, – проговорила жена Маэ, потягиваясь в постели.
Она тоже только что проснулась и досадовала, что ей никогда не дают как следует выспаться. Неужели они не могут тихо уйти! Она лежала, закутавшись в одеяло так, что видно было только ее длинное лицо с крупными чертами, сохранившее следы грубой красоты; к тридцати девяти годам она уже поблекла от вечной нужды и семерых детей: Глядя в потолок, она медленно заговорила; муж тем временем одевался. Ни он, ни она не обращали больше внимания на ребенка, надрывавшегося от крика.
– Знаешь, я сижу без гроша, а сегодня только еще понедельник: до получки шесть дней… Как дальше быть? Вы все вместе приносите девять франков. Как мне на них обернуться? В доме ведь десять ртов.
– Ох уж и девять франков! – воскликнул Маэ. – Я да Захария получаем по три франка – всего шесть… Катрина и отец по два – вот еще четыре; четыре да шесть – десять… Да еще Жанлен получает франк: вот тебе одиннадцать.
– Одиннадцать-то одиннадцать, а праздников и прогулов ты не считаешь? Говорю тебе: больше девяти никогда не получается!
Маэ не отвечал, ища на полу свой кожаный пояс. Затем, разгибаясь, промолвил:
– Нечего жаловаться, я еще здоров. А сколько в сорок два года на ремонтную работу переходят!
– Может быть, может быть, старина, но от этого на хлеб у нас не прибавляется. Что же мне делать, скажи на милость? У тебя-то ничего нет?
– Два су есть.
– Ну и оставь себе, выпьешь кружку пива… Господи! А мне что делать? Шесть дней еще – конца не видать. Мы в лавке у Мегра шестьдесят франков задолжали. Он меня позавчера за дверь выставил, а я все-таки к нему опять пойду. Но если он упрется и откажет…
И она продолжала унылым голосом, не поворачивая головы, жмурясь порою от скудного света свечи. Она говорила о том, что в доме ничего нет, а дети просят хлеба; даже кофе не хватает, от воды делается резь в животе; и сколько еще придется им есть вареную капусту, обманывая голодный желудок. Она говорила все громче, так как рев Эстеллы заглушал слова. Этот истошный крик становился невыносимым. Маэ, казалось, только теперь услыхал его, вне себя выхватил ребенка из люльки и бросил его на кровать к матери, яростно бормоча:
– На тебе, а то я ее пристукну!.. Ну и ребенок, прости Господи! Ей-то ни в чем недостатка нет, сосет себе грудь, а орет громче всех!
В самом деле, Эстелла тотчас принялась сосать. Закутанная в одеяло, успокоенная теплом постели, она только почмокивала губами.
– Разве господа из Пиолены тебе не говорили, чтобы ты к ним пришла? – спросил он, помолчав.
Жена с сомнением уныло сжала губы.
– Да, я их встретила, они носили одежду бедным детям… И правда, сведу-ка я к ним сегодня Ленору и Анри. Хоть бы сто су дали!
Опять наступило молчание. Маэ уже собрался. С минуту он постоял, потом глухо промолвил:
– Что поделаешь? Уж как есть… Постарайся сварить хоть супу… Словами делу не поможешь, лучше уж мне идти на работу.
– И то верно, – ответила она. – Задуй свечу: нечего даром жечь.
С лестницы послышалось ворчание; сердитый голос Маэ пробормотал:
– Черт возьми! Самая пора… Это ты засветила, Катрина?
– Да, отец… Внизу только что пробило.
– Попроворнее, бездельница! Кабы ты вчера поменьше плясала, то и разбудила бы нас пораньше… Лентяи!
Он продолжал браниться; но сон опять одолел его, ворчание прекратилось, и снова послышался храп.
Девушка стала босыми ногами на пол и, как была, в одной сорочке, принялась расхаживать по комнате. Проходя мимо кровати Анри и Леноры, она накинула на них соскользнувшее одеяло; они крепко спали, как спят в детстве, и не пошевельнулись. Альзира, с открытыми глазами, не говоря ни слова, перелегла на теплое место старшей сестры.
– Эй, Захария! И ты, Жанлен! – повторяла Катрина перед кроватью братьев; они лежали лицом вниз, уткнувшись в подушку.
Ей пришлось схватить старшего брата за плечо и потрясти его, – тот начал ругаться; тогда она стянула с них одеяло. Это развеселило ее, и она засмеялась, глядя, как мальчики отбивались голыми ногами.
– Оставь глупости! – недовольно ворчал Захария, садясь на постели. – Не люблю я таких проделок… Господи, как вставать не хочется…
Тощий, неуклюжий, с длинным лицом и реденькой бородкой, с белесыми волосами, он казался малокровным, как и вся семья. Рубашка задралась у него до живота, и он ее одернул, но не от стыдливости, а потому что продрог.
– Внизу уже пробило четыре, – повторила Катрина. – Живей, ну! Отец сердится…
Жанлен, свернувшийся клубком, опять закрыл глаза:
– Отстань, я сплю!
Девушка звонко расхохоталась. Жанлен был такой маленький, его тонкие руки и ноги распухли в суставах от золотухи. Катрина легко подняла его на руки; мальчик стал бить ее ногами, и его бесцветное обезьянье лицо, обрамленное шапкой курчавых волос, с зелеными глазами и большими ушами побледнело от злости; его сердило, что он такой хилый. Он изловчился и укусил сестру в грудь.
– Злюка! – проговорила она рассерженно и опустила его на пол.
Альзира тоже проснулась, но лежала молча, натянув одеяло до подбородка, и больше не засыпала. Она следила умными глазами за сестрой и обоими братьями, которые стали одеваться. Теперь ссора вспыхнула возле умывальной миски; братья толкали и отгоняли сестру – та слишком долго мылась. Скинув рубашки, еще не вполне проснувшись, они отправляли свои надобности, нисколько не стыдясь, непринужденно и спокойно, как щенята, выросшие вместе. Катрина собралась первой. Она надела штаны углекопа, холщовую блузу, синий чепец на голову; в рабочей одежде она казалась мальчиком-подростком, только легкое покачивание бедрами выдавало ее пол.
– Когда старик вернется, – злобно проговорил Захария, – постель совсем остынет; то-то он будет ворчать… А я ему скажу, что это ты ее выстудила.
«Старик» – то есть дед Бессмертный. Ночью он работал, а днем спал, так что постель никогда не остывала: на ней всегда кто-нибудь храпел.
Катрина, не отвечая, подняла одеяло и прибрала постель. За стеною послышался шум из соседнего дома. В этих кирпичных домиках, построенных компанией с соблюдением величайшей экономии, стены были так тонки, что сквозь них проникал малейший шум. Люди во всем поселке теснились бок о бок; ничто из домашней жизни не могло быть скрыто, даже от детей. По лестнице раздались тяжелые шаги, потом послышалось падение чего-то мягкого и затем – вздох наслаждения.
– Недурно! – сказала Катрина. – Левак вышел, а к его жене заявился Бутлу.
Жанлен захихикал, даже у Альзиры заблестели глаза. Они каждое утро потешались над этим соседским супружеством втроем: у забойщика жил на квартире ремонтный рабочий, и у женщины оказалось два мужа – один ночной, другой дневной.
– Филомена кашляет, – заметила Катрина.
Она говорила о старшей дочери Левака – девятнадцатилетней девушке, любовнице Захарии, которая уже прижила от него двоих детей; она была слабогруда и состояла сортировщицей, так как не могла работать под землею.
– Пустяки! – возразил Захария. – Филомена и знать ничего не хочет, спит себе!.. Свинство – спать до шести часов!
Он надел штаны, потом отворил окно, словно что-то задумав. Поселок просыпался, в прорезах ставней замелькали огни. Брат и сестра снова заспорили: Захария высунулся, чтобы подстеречь, не выйдет ли из дома Пьерронов, что напротив, старший надзиратель. Говорили – он живет с женою Пьеррона; Катрина же уверяла, что Пьеррон накануне заступил на очередное дневное дежурство по загрузке, и Дансарт поэтому никак не мог сегодня там ночевать. В комнату проникал холодный воздух, но брат и сестра были слишком увлечены спором: они этого даже не почувствовали, каждый отстаивал правильность своих догадок. Но вдруг раздались крики и плач: Эстелла озябла в своей люльке.
Маэ сразу проснулся. Почему он так обессилел? Вот, опять заснул, как настоящий бездельник… И он стал так браниться, что дети притихли. Захария и Жанлен закончили умываться и как бы утихомирились. Альзира все лежала с широко раскрытыми глазами. Двое младших – Ленора и Анри, – обняв друг друга, не пошевельнулись и спали по-прежнему, несмотря на шум, тихо дыша во сне.
– Катрина, подай свечу! – крикнул Маэ.
Она застегнула блузу и понесла свечу в лестничный проход. Братья продолжали разыскивать свою одежду при скудном свете, проникавшем в дверь. Отец вскочил с постели. Не останавливаясь, Катрина спустилась ощупью по лестнице, как была, в грубых шерстяных чулках, и в нижней комнате зажгла другую свечу, чтобы сварить кофе. Вся обувь стояла под буфетом.
– Замолчи, гаденыш! – вспылил Маэ, выведенный из себя криками Эстеллы, которая все не унималась.
Он был приземистый, как и старик Бессмертный, с крупной головой, с плоским бледным лицом; белесые волосы были коротко острижены. Ребенок, перепугавшись, заорал еще громче, когда отец принялся размахивать над ним своими огромными жилистыми руками.
– Оставь ее, ведь знаешь, что она не уймется, – проговорила жена Маэ, потягиваясь в постели.
Она тоже только что проснулась и досадовала, что ей никогда не дают как следует выспаться. Неужели они не могут тихо уйти! Она лежала, закутавшись в одеяло так, что видно было только ее длинное лицо с крупными чертами, сохранившее следы грубой красоты; к тридцати девяти годам она уже поблекла от вечной нужды и семерых детей: Глядя в потолок, она медленно заговорила; муж тем временем одевался. Ни он, ни она не обращали больше внимания на ребенка, надрывавшегося от крика.
– Знаешь, я сижу без гроша, а сегодня только еще понедельник: до получки шесть дней… Как дальше быть? Вы все вместе приносите девять франков. Как мне на них обернуться? В доме ведь десять ртов.
– Ох уж и девять франков! – воскликнул Маэ. – Я да Захария получаем по три франка – всего шесть… Катрина и отец по два – вот еще четыре; четыре да шесть – десять… Да еще Жанлен получает франк: вот тебе одиннадцать.
– Одиннадцать-то одиннадцать, а праздников и прогулов ты не считаешь? Говорю тебе: больше девяти никогда не получается!
Маэ не отвечал, ища на полу свой кожаный пояс. Затем, разгибаясь, промолвил:
– Нечего жаловаться, я еще здоров. А сколько в сорок два года на ремонтную работу переходят!
– Может быть, может быть, старина, но от этого на хлеб у нас не прибавляется. Что же мне делать, скажи на милость? У тебя-то ничего нет?
– Два су есть.
– Ну и оставь себе, выпьешь кружку пива… Господи! А мне что делать? Шесть дней еще – конца не видать. Мы в лавке у Мегра шестьдесят франков задолжали. Он меня позавчера за дверь выставил, а я все-таки к нему опять пойду. Но если он упрется и откажет…
И она продолжала унылым голосом, не поворачивая головы, жмурясь порою от скудного света свечи. Она говорила о том, что в доме ничего нет, а дети просят хлеба; даже кофе не хватает, от воды делается резь в животе; и сколько еще придется им есть вареную капусту, обманывая голодный желудок. Она говорила все громче, так как рев Эстеллы заглушал слова. Этот истошный крик становился невыносимым. Маэ, казалось, только теперь услыхал его, вне себя выхватил ребенка из люльки и бросил его на кровать к матери, яростно бормоча:
– На тебе, а то я ее пристукну!.. Ну и ребенок, прости Господи! Ей-то ни в чем недостатка нет, сосет себе грудь, а орет громче всех!
В самом деле, Эстелла тотчас принялась сосать. Закутанная в одеяло, успокоенная теплом постели, она только почмокивала губами.
– Разве господа из Пиолены тебе не говорили, чтобы ты к ним пришла? – спросил он, помолчав.
Жена с сомнением уныло сжала губы.
– Да, я их встретила, они носили одежду бедным детям… И правда, сведу-ка я к ним сегодня Ленору и Анри. Хоть бы сто су дали!
Опять наступило молчание. Маэ уже собрался. С минуту он постоял, потом глухо промолвил:
– Что поделаешь? Уж как есть… Постарайся сварить хоть супу… Словами делу не поможешь, лучше уж мне идти на работу.
– И то верно, – ответила она. – Задуй свечу: нечего даром жечь.