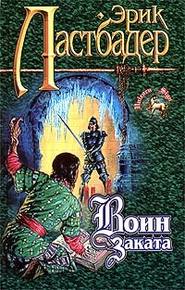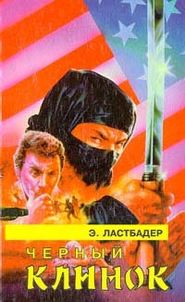По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дай-сан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ты не причинишь мне вреда, ты не сможешь, сказал он.
Глядя в глаза Сетсору.
Приближаясь.
Без воздуха.
Ты понимаешь, сказал он. Скажи мне, кто ты.
– Что ты имеешь в виду?
Ты знаешь.
Конвульсивное сжатие темноты.
– Ты сумасшедший!
Взмахи мерзостных крыльев.
Все будет кончено, если ты мне не скажешь.
Сетсору тоже почувствовал это. Теперь.
Я знаю, а значит, и ты должен знать.
– Боюсь, что…
Это все, что осталось ему. У него.
И все-таки что-то осталось.
Скажи мне.
– Я, – прохрипел Сетсору, – это ты.
Шелест ветра, и это ушло.
Внизу, далеко-далеко внизу, в самом центре мироздания, извивалось оно – безголовое существо, чье туловище бесконечно тянулось в пространстве. Оно ворочалось, корчилось и блестело, постоянно меняясь и пребывая вовеки неизменным.
Снизу до них долетел шквал соленого ветра. Начали проявляться цвета.
Тело Оленя содрогалось от рыданий. Они удерживали друг друга, обливаясь соленым потом, а потом как бы слились воедино и оказались друг в друге, связанные нерушимыми узами, и теперь он наконец ощутил в отношении Сетсору другое чувство, которое он затруднился бы определить.
Они стали одним существом.
Энергия заструилась в них, и он-они-он увидел бесконечные фанфары живого грома; услышал многоцветное небо, перетекающее из розового в ослепительно белый, из белого – в голубой, из голубого – в лиловый, из лилового – в серый, потом – в коричневый, золотой и оранжевый, потом – в цвет пламени, потом – в цвет ржавчины. Он ощущал взмахи крыльев гусей и ржанок, живыми вымпелами устремившихся на восток. Праздничными парадными знаменами. Он ощущал, как работают мышцы, которые движут этими крыльями.
Один.
Мгновенная вспышка холодного чистого серого цвета.
Зеленое полубеспамятство.
Тепло.
Словно что-то плывет через морские пещеры, у самых основ мироздания – такое знакомое… как будто когда-то, давным-давно, оно уже было здесь. Или ему тогда только казалось, что было.
Он плыл в зыбком мареве мимо отвесных базальтовых и гранитных скал в основании мира. Он рос, увеличиваясь в размерах. Отращивал голову и торс, руки и ноги, ладони и ступни. Постепенно черты его приобретали единственную выразительность, отличавшую его от других. Он протянул руку и прикоснулся к покатому склону Эгира, клубящегося, колыхавшегося, необъятного.
Рядом с ним нарастала структура мира, и он сам тоже рос, медленно вращаясь вокруг своей оси, касаясь шершавой шкуры исполинского существа. Его как бы вскрыли, разрезали вдоль по бокам, от подмышек до самых ступней, и кровь лилась из него черными вздувающимися облаками – пыль другой жизни. А потом кожа мгновенно срослась, но не по линии разрезов. Окрашенная, исполосованная рубцами, татуированная… Он превратился в живой иероглиф, заключавший в себе, может быть, и историю всего человечества.
Снова лопнула кожа, кости раскрошились, кальций и фосфор пылью просыпались в воду. Но беспокойное море, уже само по себе насыщенное этими веществами, влило их обратно в разъятое тело. Из омытых соленой водой элементов сложились новые кости необычной длины, соединенные между собой с величайшим искусством.
Он провалился в беспамятство, успев понять только, что он изменяется, обретает иную форму, что сейчас он текучий и зыбкий, как само море, которое держит его в своих темных и крепких объятиях. А дальше – пока он спал – произошли еще более основательные изменения. Но он уже этого не ощущал.
Милосердное забытье.
Его лицо разлетелось на тысячи обломков, и осколки его растворились в волнах, превратившись в податливый материал в чьих-то невидимых руках, и руки лепили единственный в мире образ – бережно и аккуратно.
Тело расширилось и удлинилось; мышцы начали приобретать упругость, растягиваясь на каркасе из новых костей. Слой за слоем нарастали они бугристыми нагорьями, формируя ландшафт нового тела.
И все это время он грезил.
Вереница сияющих образов проносилась у него в мозгу, как ревущий поток. В этом потоке смешались места, и события, и люди, которых он знал, и сцены из жизни каких-то других людей. Раздираемые в клочья, словно гонимые ветром тучи, догоняющие устремленное на запад солнце.
Плывущие вниз, к земле.
Он стоит, коленопреклоненный, на берегу древнего пруда. Напротив – через зеленую воду – другой силуэт.
Пруд безмятежен и тих. Всеобъемлющее спокойствие, трогательное до слез. Лягушка прыгает в воду, и по воде расходятся круги. Все шире и шире.
Он смотрит на воду. Он ждет, когда появится его отражение.
Теперь ничто не колеблет сверкающей глади пруда. Может быть, только намек на легкий ветерок, безмолвный и неусыпный, проплывает над тихой водой.
Он не знал, не мог знать, каким будет его отражение.
Но даже при этом…
Он пришел в себя и обнаружил, что Ханеда изменилась.
Высокая, открытая комната Никуму превратилась в беспорядочное нагромождение камней и обломков дерева. То ли небо обрушилось. То ли битва титанов случилась здесь и принесла с собой опустошение. Ярость вспорола пространство, рассыпавшись в воздухе ядовитой пылью. И ненависть такого накала, что она пульсировала в ночи. Ханеда – место великой бойни.
Он был один.
Его тяжелые шаги отзывались гремящим эхом в развалинах замка. Язычки пламени трепыхались там, куда были сброшены факелы, догоравшие среди каменной и известковой пыли.
Обнаженный, он спустился по остаткам лестницы, спрыгнув с края провала четырехметровой высоты в заросли криптомерии.
Глядя в глаза Сетсору.
Приближаясь.
Без воздуха.
Ты понимаешь, сказал он. Скажи мне, кто ты.
– Что ты имеешь в виду?
Ты знаешь.
Конвульсивное сжатие темноты.
– Ты сумасшедший!
Взмахи мерзостных крыльев.
Все будет кончено, если ты мне не скажешь.
Сетсору тоже почувствовал это. Теперь.
Я знаю, а значит, и ты должен знать.
– Боюсь, что…
Это все, что осталось ему. У него.
И все-таки что-то осталось.
Скажи мне.
– Я, – прохрипел Сетсору, – это ты.
Шелест ветра, и это ушло.
Внизу, далеко-далеко внизу, в самом центре мироздания, извивалось оно – безголовое существо, чье туловище бесконечно тянулось в пространстве. Оно ворочалось, корчилось и блестело, постоянно меняясь и пребывая вовеки неизменным.
Снизу до них долетел шквал соленого ветра. Начали проявляться цвета.
Тело Оленя содрогалось от рыданий. Они удерживали друг друга, обливаясь соленым потом, а потом как бы слились воедино и оказались друг в друге, связанные нерушимыми узами, и теперь он наконец ощутил в отношении Сетсору другое чувство, которое он затруднился бы определить.
Они стали одним существом.
Энергия заструилась в них, и он-они-он увидел бесконечные фанфары живого грома; услышал многоцветное небо, перетекающее из розового в ослепительно белый, из белого – в голубой, из голубого – в лиловый, из лилового – в серый, потом – в коричневый, золотой и оранжевый, потом – в цвет пламени, потом – в цвет ржавчины. Он ощущал взмахи крыльев гусей и ржанок, живыми вымпелами устремившихся на восток. Праздничными парадными знаменами. Он ощущал, как работают мышцы, которые движут этими крыльями.
Один.
Мгновенная вспышка холодного чистого серого цвета.
Зеленое полубеспамятство.
Тепло.
Словно что-то плывет через морские пещеры, у самых основ мироздания – такое знакомое… как будто когда-то, давным-давно, оно уже было здесь. Или ему тогда только казалось, что было.
Он плыл в зыбком мареве мимо отвесных базальтовых и гранитных скал в основании мира. Он рос, увеличиваясь в размерах. Отращивал голову и торс, руки и ноги, ладони и ступни. Постепенно черты его приобретали единственную выразительность, отличавшую его от других. Он протянул руку и прикоснулся к покатому склону Эгира, клубящегося, колыхавшегося, необъятного.
Рядом с ним нарастала структура мира, и он сам тоже рос, медленно вращаясь вокруг своей оси, касаясь шершавой шкуры исполинского существа. Его как бы вскрыли, разрезали вдоль по бокам, от подмышек до самых ступней, и кровь лилась из него черными вздувающимися облаками – пыль другой жизни. А потом кожа мгновенно срослась, но не по линии разрезов. Окрашенная, исполосованная рубцами, татуированная… Он превратился в живой иероглиф, заключавший в себе, может быть, и историю всего человечества.
Снова лопнула кожа, кости раскрошились, кальций и фосфор пылью просыпались в воду. Но беспокойное море, уже само по себе насыщенное этими веществами, влило их обратно в разъятое тело. Из омытых соленой водой элементов сложились новые кости необычной длины, соединенные между собой с величайшим искусством.
Он провалился в беспамятство, успев понять только, что он изменяется, обретает иную форму, что сейчас он текучий и зыбкий, как само море, которое держит его в своих темных и крепких объятиях. А дальше – пока он спал – произошли еще более основательные изменения. Но он уже этого не ощущал.
Милосердное забытье.
Его лицо разлетелось на тысячи обломков, и осколки его растворились в волнах, превратившись в податливый материал в чьих-то невидимых руках, и руки лепили единственный в мире образ – бережно и аккуратно.
Тело расширилось и удлинилось; мышцы начали приобретать упругость, растягиваясь на каркасе из новых костей. Слой за слоем нарастали они бугристыми нагорьями, формируя ландшафт нового тела.
И все это время он грезил.
Вереница сияющих образов проносилась у него в мозгу, как ревущий поток. В этом потоке смешались места, и события, и люди, которых он знал, и сцены из жизни каких-то других людей. Раздираемые в клочья, словно гонимые ветром тучи, догоняющие устремленное на запад солнце.
Плывущие вниз, к земле.
Он стоит, коленопреклоненный, на берегу древнего пруда. Напротив – через зеленую воду – другой силуэт.
Пруд безмятежен и тих. Всеобъемлющее спокойствие, трогательное до слез. Лягушка прыгает в воду, и по воде расходятся круги. Все шире и шире.
Он смотрит на воду. Он ждет, когда появится его отражение.
Теперь ничто не колеблет сверкающей глади пруда. Может быть, только намек на легкий ветерок, безмолвный и неусыпный, проплывает над тихой водой.
Он не знал, не мог знать, каким будет его отражение.
Но даже при этом…
Он пришел в себя и обнаружил, что Ханеда изменилась.
Высокая, открытая комната Никуму превратилась в беспорядочное нагромождение камней и обломков дерева. То ли небо обрушилось. То ли битва титанов случилась здесь и принесла с собой опустошение. Ярость вспорола пространство, рассыпавшись в воздухе ядовитой пылью. И ненависть такого накала, что она пульсировала в ночи. Ханеда – место великой бойни.
Он был один.
Его тяжелые шаги отзывались гремящим эхом в развалинах замка. Язычки пламени трепыхались там, куда были сброшены факелы, догоравшие среди каменной и известковой пыли.
Обнаженный, он спустился по остаткам лестницы, спрыгнув с края провала четырехметровой высоты в заросли криптомерии.