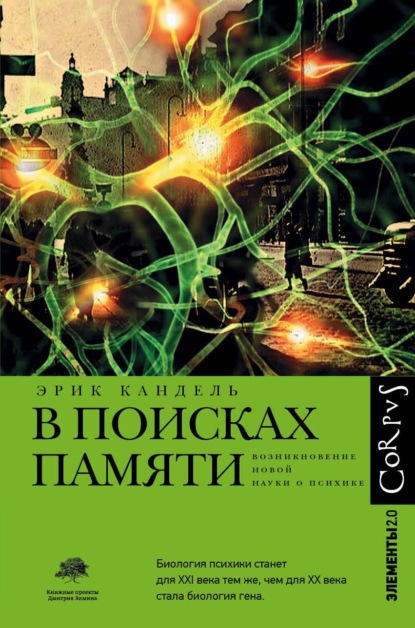По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В поисках памяти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гитлер был австрийцем и жил в Вене. Он переехал в столицу из своего родного города Браунау-на-Инне в 1908 году в возрасте девятнадцати лет в надежде стать художником. Хотя у него и был некоторый талант живописца, после нескольких попыток ему так и не удалось поступить в Венскую академию художеств. Но в Вене он попал под влияние Карла Люгера. Именно на примере Люгера Гитлер впервые познакомился с властью ораторской демагогии и политической выгодой антисемитизма.
Гитлер с юных лет мечтал об объединении Австрии и Германии. В связи с этим программа немецкой нацистской партии, отчасти бравшей за образец австрийских нацистов, с самого своего возникновения в двадцатых годах включала пункт об объединении немецкоговорящего народа в Великую Германию. Осенью 1936 года Гитлер начал претворять этот пункт в жизнь. Придя в 1933 году к власти в Германии, в 1935?м он восстановил воинскую повинность, а в следующем году приказал войскам вновь занять Рейнскую область – немецкоговорящий регион, по условиям Версальского договора демилитаризованный и поставленный под надзор Франции. После этого его выступления стали агрессивнее, и теперь в них содержалась угроза нападения на Австрию. Шушниг мечтал умиротворить Гитлера, в то же время сохранив независимость своей страны, поэтому он отреагировал на угрозы, попросив Гитлера о встрече. Они встретились 12 февраля 1938 года в Берхтесгадене, вблизи австрийской границы, где Гитлер, движимый сентиментальными побуждениями, устроил себе частную резиденцию.
Демонстрируя силу, Гитлер прибыл на эту встречу в сопровождении двух генералов и угрожал вторжением в Австрию, если Шушниг не отменит ограничения, наложенные на деятельность австрийской нацистской партии, и не назначит троих нацистов на ключевые министерские должности. Шушниг отказался. Но Гитлер усилил давление, и в тот же день обессиленный канцлер в конце концов сдался, согласившись легализовать нацистскую партию, выделить ей два министерских портфеля, освободить нацистов, которых держали под стражей как политических заключенных. Но соглашение между Шушнигом и Гитлером только увеличило жажду власти у австрийских нацистов. Ставшие теперь группой немалых размеров, они вышли из подполья и бросили вызов правительству Шушнига, устроив несколько выступлений, которые полиции оказалось непросто подавить. Перед лицом угрозы гитлеровской агрессии извне и восстания австрийских нацистов изнутри Шушниг перешел в наступление и решительно объявил о референдуме, который должен был состояться 13 марта, всего через месяц после его встречи с Гитлером. Вопрос, вынесенный на этот референдум, был прост: должна ли Австрия остаться свободной и независимой, да или нет?
Этот смелый шаг Шушнига, высоко оцененный моими родителями, встревожил Гитлера, так как казалось почти несомненным, что референдум закончится победой сторонников независимости Австрии. Гитлер отреагировал, мобилизовав войска и пригрозив вторжением, если Шушниг не перенесет референдум, не подаст в отставку и не сформирует правительство, которое должен был возглавить новый канцлер – австрийский нацист Артур Зейсс-Инкварт. Шушниг обратился за помощью к Великобритании и Италии – двум странам, которые до этого поддерживали независимость Австрии. К ужасу венских либералов, таких как мои родители, ни одна из этих стран не отреагировала. Покинутый потенциальными союзниками, стремясь избежать бессмысленного кровопролития, вечером 11 марта Шушниг подал в отставку.
Несмотря на то что президент Австрии согласился на все требования Германии, на следующий день Гитлер начал вторжение.
Дальнейшее оказалось сюрпризом. Вместо толп возмущенных австрийцев Гитлера восторженно встречало ощутимое большинство населения. Как отметил Джордж Беркли, это резкое превращение граждан, еще вчера кричавших о своей верности Австрии и поддерживавших Шушнига, в людей, приветствующих гитлеровские войска как “германских братьев”, нельзя объяснить просто выходом десятков тысяч нацистов из подполья. То, что произошло, представляло собой скорее одно из “самых быстрых и полных массовых обращений в новую веру” во всей человеческой истории. Как писал об этом впоследствии Ханс Ружичка, “это – люди, которые рукоплескали императору, а затем проклинали его, которые приветствовали демократию после свержения императора, а затем аплодировали [дольфусовскому] фашизму, когда к власти пришел новый режим. Сегодня такой человек нацист, завтра он будет кем?нибудь еще”.
Австрийская пресса не стала исключением. В пятницу 11 марта Reichspost, одна из ведущих газет страны, поддерживала Шушнига. Два дня спустя та же газета на первой странице опубликовала редакторскую статью, озаглавленную “К исполнению”, в которой говорилось: “Благодаря гению и решимости Адольфа Гитлера час всегерманского единства настал”.
Злобные нападки на евреев, начавшиеся в середине марта 1938 года, достигли апогея восемь месяцев спустя, во время Хрустальной ночи. Когда я впоследствии читал об этом, я узнал, что отчасти ночь была вызвана событиями 28 октября 1938 года. В тот день нацисты депортировали семнадцать тысяч евреев, происходивших из Восточной Европы, бросив их на произвол судьбы возле городка Збоншинь на границе Германии и Польши. В то время нацисты по?прежнему рассматривали эмиграцию, добровольную или насильственную, как способ решения “еврейского вопроса”. Утром 7 ноября семнадцатилетний еврейский юноша Гершель Гриншпан, взбешенный депортацией его родителей в Збоншинь из их дома в Германии, застрелил Эрнста фон Рата, третьего секретаря посольства Германии в Париже, по ошибке приняв его за германского посла. Два дня спустя, используя это событие как предлог, чтобы обрушиться на еврейство, организованные толпы подожгли большинство синагог в Германии и Австрии.
Из всех городов, бывших под властью нацистов, Вена пала особенно низко. Над евреями издевались и жестоко били, выгоняли с предприятий и временно выселяли из домов, после чего их предприятия и дома грабили алчные соседи. Наша прекрасная синагога на Шопенгауэрштрассе была полностью уничтожена. Симон Визенталь, ведущий охотник за нацистами после Второй мировой войны, впоследствии говорил, что “по сравнению с Веной Хрустальная ночь в Берлине была милым рождественским праздником”.
В день Хрустальной ночи моего отца задержали, а его магазин конфисковали и передали новому владельцу, нееврею. Это делалось в порядке так называемой ариизации (Ariesierung) собственности – узаконенной нацистами формы грабежа. С середины ноября 1938 года, когда моего отца выпустили из?под стражи, до августа 1939?го, когда они с мамой уехали из Вены, мои родители очень бедствовали. Как я узнал намного позже, они получали продовольствие, а отец – иногда и возможность работать, например переносить мебель, от Israelitische Kultusgemeinde der Stadt Wien – Еврейской общины города Вены.
Мои родители знали об антиеврейских законах, введенных в Германии после прихода Гитлера к власти, и понимали, что насилие в Вене теперь едва ли утихнет. Они были уверены, что нам нужно уезжать, причем как можно скорее. Брат моей мамы, Берман Цимельс, лет десять назад переехал из Австрии в Нью-Йорк, где устроился работать бухгалтером. Мама написала ему 15 марта 1938 года, всего через три дня после вступления Гитлера в Вену, и он быстро прислал нам заверенные нотариусом письма, гарантирующие американским властям, что он обеспечит нас средствами к существованию в Соединенных Штатах. Однако в 1924 году Конгресс принял закон об иммиграции, устанавливавший квоты на число иммигрантов в Соединенные Штаты из стран Восточной и Южной Европы. Так как мои родители родились на территории, которая теперь входила в состав Польши, нам потребовалось около года дожидаться повышения квоты, несмотря на то что в нашем распоряжении были требуемые гарантийные письма. Когда размер квоты был наконец объявлен, нам пришлось эмигрировать поэтапно, тоже из?за законов об иммиграции, где оговаривался порядок, в котором члены одной семьи имели право въезжать в Соединенные Штаты. Согласно этому порядку первыми могли приехать родители моей мамы, что они и сделали в феврале 1939 года, затем, в апреле, мы с братом и, наконец, родители – в конце августа, всего за несколько дней до того, как разразилась Вторая мировая война.
Из-за того что у моих родителей отняли их единственный источник дохода, у нас не было денег на дорогу до Соединенных Штатов. Поэтому родители подали прошение в Еврейскую общину, чтобы им оплатили полтора билета на корабль компании Holland America Line: один билет для моего брата и полбилета для меня. Несколько месяцев спустя они подали прошение об оплате двух билетов для них самих. Нам повезло, что оба прошения удовлетворили. Мой отец был честным, добросовестным человеком и всегда вовремя платил по счетам. У меня сейчас находятся все документы, которые прилагались к его прошению, и они показывают, как исправно он платил свои членские взносы в Еврейскую общину. В аттестации, приложенной сотрудником общины к прошению отца, особо отмечается, что это человек достойный, с безупречной репутацией.
Последний год в Вене сыграл в моей жизни определяющую роль. Разумеется, он заронил во мне чувство глубокой, неизменной благодарности за жизнь, выпавшую мне в Соединенных Штатах. Но несомненно и то, что зрелище Вены под властью нацистов было также моим первым знакомством с темной, садистской стороной человеческого поведения. Как понять эту дикую жестокость, внезапно охватившую столь многих людей? Как могло высокообразованное общество так быстро принять политику карательных мер, в основе которой лежат ненависть и презрение к целому народу?
Ответить на эти вопросы сложно. Многие исследователи пытались предложить свои обрывочные и противоречивые ответы. Один из выводов, который будоражит мои чувства, состоит в том, что качество культуры того или иного общества не может служить надежным показателем его уважения к человеческой жизни. Культура просто не способна избавить людей от их склонностей и преобразовать их образ мышления. Стремление уничтожать людей, не принадлежащих к собственной группе, может быть врожденным и возбуждаться почти в любой сплоченной группе.
Я сильно сомневаюсь, что какие?либо из подобных псевдогенетических наклонностей могли бы работать в полном вакууме. Немцы в целом не разделяли озлобленного антисемитизма австрийцев. Почему же тогда культурные ценности венцев так кардинально разошлись с их моральными ценностями? Разумеется, поведение венцев в 1938 году во многом объясняется чистым оппортунизмом. Успехи еврейского сообщества – экономические, политические, культурные и академические – вызывали зависть и жажду мести у неевреев, особенно в университетской среде. Процент членов нацистской партии среди университетских преподавателей намного превосходил таковой среди населения в целом. В результате венцы-неевреи стремились продвинуться в своей профессии, заняв места преуспевших евреев, – и евреи, работавшие университетскими преподавателями, юристами и врачами, быстро остались без работы. Многие венцы просто присвоили себе жилье и имущество евреев. В результате, как показало подробное исследование этого периода, которое провели Тина Вальцер и Штефан Темпль, “большое число адвокатов, судей и врачей в 1938 году повысило уровень собственного благосостояния, ограбив своих ближних – евреев. Успех многих австрийцев в наши дни основан на деньгах и собственности, украденных шестьдесят лет назад”.
Еще одно объяснение этого расхождения культурных и моральных ценностей связано с переходом от культурной формы антисемитизма к расовой. Культурный антисемитизм основан на представлении о “еврейскости” как религиозной или культурной традиции, передаваемой путем обучения, через особые обычаи и образование. Эта форма антисемитизма приписывает евреям определенные отталкивающие психологические и социальные особенности, приобретаемые путем усвоения культуры, например неодолимое стремление к наживе. Однако такой антисемитизм также предполагает, что, поскольку еврейскость приобретается воспитанием в еврейской семье, эти особенности можно и устранить через образование или обращение в иную веру, когда еврей или еврейка преодолевает свое еврейство. Еврей, обратившийся в католицизм, в принципе может быть ничем не хуже любого другого католика.
Считается, что расовый антисемитизм, напротив, происходит из убеждения, что евреи как раса генетически отличаются от других рас. Это представление восходит к доктрине богоубийства, которой долгое время учила Римско-католическая церковь. Как доказывал Фредерик Швейцер, католик, изучавший историю евреев, эта доктрина и положила начало представлениям о том, что евреи повинны в смерти Христа (до недавнего времени Католическая церковь не отрекалась от этих представлений). Согласно Швейцеру, эта доктрина предполагала, что евреи, виновные в богоубийстве, как раса обладают врожденным недостатком человечности и поэтому должны генетически отличаться от других людей, быть недолюдьми. Значит, их можно без сожаления исключить из числа человеческих рас. Расовый антисемитизм был обоснован испанской инквизицией в начале xiv века и воспринят в семидесятых годах xix века некоторыми австрийскими (и немецкими) интеллектуалами, в числе которых были Георг фон Шенерер, лидер пангерманских националистов в Австрии, и Карл Люгер, венский бургомистр. Хотя до 1938 года расовый антисемитизм и не был в Вене господствующей политической силой, после марта этого года он приобрел статус официальной государственной политики.
После того как расовый антисемитизм пришел на смену культурному, ни один еврей уже никак не мог стать “истинным” австрийцем. Обращение (религиозного свойства) стало невозможным. Единственно возможным решением еврейского вопроса оставалось изгнание или истребление евреев.
Мы с братом выехали в Брюссель на поезде в апреле 1939 года. Мне, девятилетнему, было очень тяжело покидать родителей, хотя отец не терял оптимизма, а мама невозмутимо уверяла, что все будет в порядке. Когда мы доехали до границы Германии с Бельгией, поезд ненадолго остановился, и в вагон вошли немецкие таможенники. Они потребовали, чтобы мы показали им ювелирные изделия и любые другие ценные вещи, которые могли у нас быть. Молодая женщина, ехавшая вместе с нами, предупреждала нас с Людвигом о возможности такого требования. Поэтому я спрятал в кармане небольшое золотое колечко с моими инициалами, подаренное мне на семилетие. Страх, который я всегда испытывал в присутствии нацистов, стал почти невыносимым, когда они зашли в поезд, и я очень боялся, что они найдут это колечко. К счастью, они не обратили на меня особого внимания, и я остался дрожать незамеченным.
В Брюсселе мы остановились у тети Минны и дяди Сруля. Солидные финансовые средства дали им возможность приобрести визу, позволившую въехать в Бельгию и поселиться в Брюсселе. Они собирались переехать к нам в Нью-Йорк через несколько месяцев. Из Брюсселя мы с Людвигом поехали на поезде в Антверпен, где сели на пароход “Герольдштейн” компании Holland America Line и через десять дней прибыли в город Хобокен в штате Нью-Джерси, проследовав мимо гостеприимно приветствовавшей нас статуи Свободы.
3. Американское образование
Приехав в Соединенные Штаты, я словно заново родился. Я еще не предвидел этого и не знал языка, чтобы сказать: “Free at last”[4 - Free at last – наконец свободен (англ.).], но сразу почувствовал, и чувство это осталось во мне навсегда. Джеральд Холтон, историк науки из Гарвардского университета, отметил, что для многих венских эмигрантов моего поколения полученное в Вене отличное образование в сочетании с чувством освобождения по прибытии в Америку высвободили безграничную энергию и вдохновили нас на то, чтобы мыслить по?новому. Это в полной мере относится и ко мне. Среди многого другого, что дала мне эта страна, было превосходное гуманитарное образование, полученное в Еврейской школе Флэтбуша, средней школе Эразмус-холл и Гарвардском колледже.
Мы с братом поселились у маминых родителей, Герша и Доры Цимельс, приехавших в Бруклин в феврале 1939 года, за два месяца до нас. Я совсем не говорил по?английски и чувствовал, что мне нужно приспосабливаться к новой жизни. Поэтому я отбросил последнюю букву моего имени, Эрих (Erich), и стал пользоваться им в нынешнем написании. С Людвигом произошло еще более серьезное превращение – в Льюиса. Наши тетя Паула и дядя Берман, жившие в Бруклине с тех пор, как в двадцатые годы они приехали в Соединенные Штаты, устроили меня в государственную начальную школу №?217, расположенную в квартале Флэтбуш недалеко от дома, где мы жили. Я ходил в эту школу только двенадцать недель, но к началу летних каникул уже умел достаточно хорошо говорить по?английски, чтобы меня понимали. В то лето я перечитал книгу Эриха Кестнера “Эмиль и сыщики” – одну из любимых книг моего детства, на этот раз на английском, и был искренне горд этим достижением.
Мне не очень нравилось в школе №?217. Туда ходили и многие другие еврейские дети, но я тогда этого не понимал. Мне как раз казалось, что, раз среди учеников так много светловолосых и голубоглазых, значит, они не евреи, и я боялся, что рано или поздно они станут относиться ко мне враждебно. Поэтому я охотно поддался на уговоры дедушки и перешел в еврейскую приходскую школу. Дедушка был весьма религиозным и ученым человеком, хотя и немного не от мира сего. Мой брат сказал, что наш дедушка – единственный известный ему человек, который умеет говорить на семи языках, но на всех говорит так, что ничего не понятно. Дедушка мне очень нравился, а я нравился ему, и он без труда убедил меня в течение лета заниматься с ним ивритом, чтобы осенью я мог поступить в Еврейскую школу Флэтбуша. В программу этой знаменитой дневной еврейской школы входили уроки светских дисциплин на английском и религиозные занятия на иврите, и то и другое с очень высоким уровнем требований.
Дедушкины уроки позволили мне осенью 1939 года поступить в эту школу. Когда в 1944 году я ее окончил, я знал иврит почти так же хорошо, как английский. Я прочитал на иврите Пятикнижие, Книги Царств, Книги Пророков и кое?что из Талмуда. Впоследствии я почувствовал и радость, и гордость, когда узнал, что Барух Бламберг, который в 1976 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине, тоже был из числа людей, получивших прекрасное образование в Еврейской школе Флэтбуша.
Мои родители уехали из Вены в конце августа 1939 года. Незадолго до их отъезда моего отца еще раз арестовали и привезли на Венский футбольный стадион, где допрашивали и запугивали “коричневые рубашки” из Sturm Abteilung (SA). Но после того, как выяснилось, что он получил американскую визу и собирается уехать, его освободили, и это, возможно, спасло ему жизнь.
Когда мои родители приехали в Нью-Йорк, отец, который ни слова не знал по?английски, нашел себе работу на фабрике, производившей зубные щетки. В Вене зубная щетка была символом его унижения, но в Нью-Йорке с нее начался его путь к лучшей жизни. Хотя ему и не нравилась эта работа, он взялся за нее со своим обычным рвением и вскоре получил выговор от представителя профсоюза за то, что делал очень много щеток за единицу времени, создавая впечатление, что другие работают слишком медленно. Но отца это не остановило. Он всей душой полюбил Америку. Как и многие другие иммигранты, он нередко называл ее goldene Medina – золотой страной, сулившей евреям безопасность и демократию. Еще в Вене он читал романы Карла Мая, мифологизировавшие покорение американского Запада и храбрость американских индейцев, и им тоже по?своему овладел дух Фронтира.
Со временем мои родители накопили достаточно денег, чтобы взять в аренду и обустроить скромный магазин одежды. Они работали вместе, продавая простые женские платья и фартуки, а также мужские рубашки, галстуки, нижнее белье и пижамы. Мы сняли квартиру над этим магазином, в доме номер 411 по Черч-авеню в Бруклине. Родители зарабатывали достаточно не только для жизни, но и на то, чтобы через некоторое время выкупить дом, в котором находились магазин и квартира. Кроме того, они смогли оплачивать мое обучение в колледже и медицинской школе.
Родители были так заняты своим магазином, источником финансового благополучия себя и своих детей, что совсем не приобщались к культурной жизни Нью-Йорка, которой мы с Льюисом начали увлекаться. И все же, несмотря на их вечные труды, они не теряли оптимизма и всегда поддерживали нас, никогда не пытаясь навязывать свои решения в том, что касалось работы и развлечений. Мой отец был честен и принципиален до одержимости: он считал своим долгом немедленно платить по всем счетам за товары, приходившие от поставщиков, и нередко дважды пересчитывал сдачу, перед тем как отдать ее покупателю. От нас с Льюисом он ожидал такой же щепетильности в финансовых вопросах. Но помимо ожидания того, что я буду вести себя разумно и корректно, я никогда не чувствовал с его стороны никакого давления в выборе специальности. Я, в свою очередь, никогда и не ждал от него советов по этим вопросам, учитывая его скромный опыт в социальной и образовательной сферах. За советами я обычно обращался к матери или, чаще, к брату, преподавателям и особенно часто – к своим друзьям.
Отец оставил работу в магазине лишь за неделю до смерти, в 1977 году, когда ему было семьдесят девять. Вскоре после этого мама продала и магазин, и дом, в котором он располагался, и переехала в более комфортабельную и немного более богатую квартиру неподалеку, на Оушн-Паркуэй. Она умерла в 1991 году, когда ей было девяносто четыре.
Когда в 1944 году я окончил Еврейскую школу Флэтбуша, она еще не была связана, как сегодня, с определенной средней школой, поэтому я пошел в Эразмус-холл – местную государственную среднюю школу, отличавшуюся очень высоким уровнем образования. Там я увлекся историей, литературной деятельностью и девушками. Я писал статьи для школьной газеты The Dutchman
и стал редактором ее спортивного раздела. Я также играл в футбол и был одним из капитанов команды по легкой атлетике (рис. 3–1). Второй капитан, Рональд Берман, один из моих самых близких школьных друзей, был превосходным бегуном и однажды выиграл состязание по бегу на полмили в городском чемпионате (я пришел пятым). Впоследствии Рон стал шекспироведом и профессором английской литературы в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Он был председателем Национального фонда гуманитарных наук в администрации президента Никсона.
Мой учитель истории, Джон Кампанья, выпускник Гарварда, убедил меня подать документы в Гарвардский колледж. Когда я впервые заговорил о поступлении в Гарвард с родителями, отец (который, как и я, плохо представлял себе, чем отличаются друг от друга разные американские университеты) отговаривал меня, потому что подавать документы в еще один колледж было дорого. Я тогда уже подал документы на поступление в Бруклинский колледж – прекрасное учебное заведение, в котором ранее учился мой брат. Узнав об опасениях отца, мистер Кампанья вызвался из собственного кармана заплатить за меня пятнадцать долларов, необходимых для подачи документов. Я был одним из двух поступивших в Гарвард студентов нашего выпуска из 1150 человек (другим был Рон Берман), причем мы оба получили стипендию. После этого мы оценили истинный смысл гарвардского гимна – Fair Harvard. Действительно, fair Harvard[5 - The Dutchman – “Голландец”. Школа Эразмус-холл названа в честь Эразма Роттердамского, а он был голландцем.]!
3–1. Команда-победительница на Пенсильванской эстафете 1948 года. Пенсильванская эстафета – это ежегодное общенациональное соревнование по легкой атлетике для школьников и студентов колледжа. Мы выиграли состязание по бегу на одну милю для школьников. (Фото любезно предоставил Рон Берман.)
Слева направо: Джон Ракер, Эрик Кандель, Джон Бартел, Рональд Берман, Питер Маннус
Хотя я был очень взволнован своей удачей и бесконечно благодарен мистеру Кампанье, я с тревогой покидал Эразмус-холл в полной уверенности, что мне уже никогда не доведется испытать безграничную радость, которую мне давали ощущение социализации и успехи в учебе и спорте в этой школе. В еврейской школе я был просто способным учеником. В Эразмусе я стал не только способным учеником, но и спортсменом. Для меня это была огромная разница. Именно в Эразмусе я впервые почувствовал, что перестал находиться в тени брата, которая так тяготила меня в годы нашей учебы в Вене. У меня впервые были свои собственные увлечения.
В Гарварде я специализировался на истории и литературе современной Европы. Это была специализация по выбору, которая требовала подготовить на последнем курсе[6 - Обучение в Гарвардском колледже (как и в других американских колледжах высшей ступени) занимает четыре года. Выпускники колледжа получают диплом бакалавра.] исследовательскую курсовую. Те и только те, кто выбирал эту специальность, имели право получать консультации начиная со второго курса вначале небольшими группами, а затем в индивидуальном порядке. Моя исследовательская работа была посвящена отношению к национал-социализму трех немецких писателей: Карла Цукмайера, Ханса Кароссы и Эрнста Юнгера. Эти трое были представителями разных позиций, отражавших широкий спектр реакций немецких интеллектуалов на наступление нацизма. Цукмайер, бесстрашный либерал, всегда осуждавший нацизм, рано покинул Германию и переехал вначале в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. Каросса, врач и поэт, занял нейтральную позицию и телом остался в Германии, хотя его душа, как он утверждал, бежала в другие края. Юнгер, лихой германский офицер в годы Первой мировой войны, воспевал духовные добродетели войны и воинов и был идейным предтечей нацистов.
Я пришел к неутешительному выводу, что многие немецкие художники и интеллектуалы, в том числе такие, казалось бы, утонченные умы, как Юнгер, или великий философ Мартин Хайдеггер, или дирижер Герберт фон Караян, с готовностью и рвением поддались националистическому пылу и расистской пропаганде национал-социализма. Последующие исследования Фрица Штерна и других историков показали, что в первый год правления Гитлера у него не было широкой народной поддержки. Если бы интеллектуалы сумели успешно мобилизоваться и повести за собой какие?то слои населения, они вполне могли бы остановить или хотя бы сильно ограничить Гитлера в его стремлении к абсолютной власти.
Я начал работать над своей курсовой на третьем курсе, в то время когда еще собирался после колледжа заниматься историей европейской культуры. Однако ближе к концу третьего курса я познакомился с Анной Крис, студенткой Рэдклифф-колледжа[7 - Рэдклифф-колледж был женским колледжем Гарвардского университета (впоследствии его объединили с Гарвардским колледжем).], которая тоже эмигрировала из Вены, и влюбился в нее. В то время я ходил на два курса семинаров Карла Фиетора: один был посвящен великому немецкому поэту Гете, другой – современной немецкой литературе. Фиетор был одним из самых выдающихся специалистов по немецкой культуре в Соединенных Штатах, а кроме того, талантливым и харизматичным преподавателем, и он поддерживал мое намерение продолжить заниматься немецкой историей и литературой. Он написал две книги о Гете (одну о его молодости, другую о нем как о зрелом поэте) и новаторское исследование, посвященное Георгу Бюхнеру, сравнительно малоизвестному драматургу, которого Фиетор помог заново открыть. За свою короткую жизнь Бюхнер успел написать одно из первых реалистических и экспрессионистских произведений – неоконченную пьесу “Войцек”, первую драму, изображающую простого, бестолкового человека как личность героических пропорций. Пьеса была опубликована лишь после смерти Бюхнера от брюшного тифа в 1837 году (в возрасте двадцати четырех лет), и впоследствии Альбан Берг переделал ее в либретто оперы (“Воццек”) и положил на музыку.
Анне очень нравилось, что я так хорошо знаком с немецкой литературой, и первое время мы не раз проводили вечера вместе за чтением немецких стихов – Новалиса, Рильке и Штефана Георге. На четвертом курсе я собирался выбрать еще два курса семинаров Фиетора. Но он внезапно умер от рака. Его смерть была для меня личным горем. Кроме того, из?за нее у меня оказалось много пустого места в учебном расписании, которое я уже спланировал. За несколько месяцев до смерти Фиетора я познакомился с родителями Анны, Эрнстом и Марианной Крис, двумя известными психоаналитиками из круга Фрейда. Общение с ними подогрело мой интерес к психоанализу и изменило мои представления о том, чем можно занять освободившееся теперь место в моем расписании.
Трудно передать сегодня ту притягательную силу, которую излучал психоанализ для молодых людей пятидесятых годов. Например, была разработана теория психики, которая позволила мне впервые оценить сложность человеческого поведения и мотиваций, лежащих в его основе. В ходе занятий по курсу Фиетора о современной немецкой литературе я прочитал книгу Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, а также произведения трех других авторов, интересовавшихся внутренними механизмами человеческой психики: Артура Шницлера, Франца Кафки и Томаса Манна. Даже в сравнении с сочинениями этих титанов литературы прозу Фрейда было приятно читать. Его немецкий, за который он в 1930 году получил премию Гете, был прост, кристально ясен и полон юмора и бесконечных отсылок к его собственным трудам. Эта книга открыла мне новый мир.
“Психопатология обыденной жизни” содержит ряд историй, настолько глубоко вошедших в нашу культуру, что сегодня они могли бы послужить сценарием для фильма Вуди Аллена или материалами для выступлений эстрадного сатирика. Фрейд подробно описывает совершенно обыденные, казалось бы, непримечательные события – оговорки, странные случайности, ситуации, когда люди кладут предметы не на место, неправильно пишут слова, не могут что?то запомнить, – и на этих примерах показывает, что человеческая психика подчиняется определенному набору правил, большинство из которых имеет бессознательную природу. На первый взгляд все эти недоразумения кажутся обыкновенными ошибками, незначительными случайностями, которые происходят с каждым (со мной они определенно происходили). Но Фрейд помог мне понять, что ни одна из этих ошибок не случайна. Каждая из них последовательно и объяснимо связана с остальной психической жизнью человека. Меня особенно поразило, что Фрейд написал все это, не будучи знакомым с моей тетей Минной!
Затем Фрейд доказывал, что психологический детерминизм (представление о том, что мало что, если вообще что?то, происходит в нашей психической жизни случайно, а каждое психологическое событие определяется предшествующим) играет ключевую роль не только в нормальной психической жизни, но и в психических заболеваниях. Любой симптом нервного расстройства, каким бы странным он ни казался, не странен для нашего бессознательного начала и связан с другими предшествующими психическими явлениями. Связь между оговоркой и ее причиной, между симптомом и лежащим в его основе когнитивным процессом кроется в работе защитных механизмов (вездесущих, динамичных, бессознательных психических процессов), которые приводят к непрерывной борьбе между саморазоблачающими и самозащитными психическими событиями. Психоанализ сулил возможность самопонимания и даже успешной терапии с помощью анализа бессознательных мотиваций и защитных механизмов, лежащих в основе человеческих поступков.
Что особенно привлекало меня в психоанализе во время учебы в колледже, так это то, что он совмещал в себе работу воображения, всесторонность и эмпирическую базу (по крайней мере, так мне по наивности казалось). Никакие другие представления о психической жизни и близко не дотягивали до психоанализа по диапазону приложения или тонкости объяснений.
В самом деле, вплоть до конца xix века у людей не было иных подходов к тайнам человеческой психики, кроме философской интроспекции (анализа собственных мыслей специально подготовленными наблюдателями) и откровений великих писателей, таких как Джейн Остин, Чарльз Диккенс, Федор Достоевский и Лев Толстой. Чтение всего этого вдохновляло меня в первые годы обучения в Гарварде. Однако, как я узнал от Эрнста Криса, ни подобный самоанализ, ни художественные откровения не могли обеспечить систематического накопления знаний, необходимых для заложения фундамента науки о психике. Ее фундамент требовал большего, чем откровения, – экспериментальных данных. Поэтому ощутимые успехи экспериментальной науки в области астрономии, физики и химии вдохновили исследователей психики на разработку экспериментальных методов изучения поведения.
Поиск таких методов начался с идеи Чарльза Дарвина, что человеческое поведение развилось в ходе эволюции из поведенческого репертуара наших животных предков. Эта идея положила начало представлению о том, что подопытных животных можно использовать в качестве моделей для изучения человеческого поведения. Российский физиолог Иван Павлов и американский психолог Эдвард Торндайк проверяли на животных выводы, следующие из философского представления о том, что мы обучаемся посредством ассоциации идей, впервые сформулированного Аристотелем и впоследствии разработанного Джоном Локком. Павлов открыл выработку классических условных рефлексов – способ научить животное ассоциировать два раздражителя. Торндайк же открыл выработку инструментальных условных рефлексов, при которой животное учат ассоциировать поведенческую реакцию с ее последствиями. Эти два механизма обучения заложили фундамент научного исследования обучения и памяти не только у простых животных, но и у человека. На смену предположению Аристотеля и Локка, что обучение включает ассоциацию идей, пришел эмпирический факт, что обучение происходит путем ассоциации двух раздражителей или раздражителя и вызываемой им реакции.
В ходе исследований выработки классических условных рефлексов Павлов открыл две неассоциативные формы обучения: привыкание и сенсибилизацию. При этих формах животное обучается только свойствам единственного раздражителя и не учится ассоциировать два раздражителя друг с другом. При привыкании животное учится игнорировать раздражитель в связи с его малозначительностью, в то время как при сенсибилизации оно обучается обращать внимание на раздражитель в связи с его важностью.
Открытия Торндайка и Павлова оказали огромное влияние на психологию, положив начало бихевиоризму – первой школе эмпирического анализа обучения. Бихевиоризм сулил надежду, что поведение можно будет изучать такими же точными методами, как те, что применяются в естественных науках. К тому времени, как я поступил в Гарвард, ведущим поборником бихевиоризма стал Беррес Фредерик Скиннер. Я познакомился с его идеями в ходе разговоров с друзьями, посещавшими его курсы. Скиннер следовал философскому пути, намеченному основателями бихевиоризма. Общими усилиями они сузили кругозор бихевиоризма, настаивая на том, что подлинно научная психология должна ограничиваться лишь доступными для всеобщего наблюдения и объективного измерения аспектами поведения. Это не оставляло места для интроспекции.
Поэтому Скиннер и другие бихевиористы сосредоточились исключительно на доступном для наблюдения поведении и исключили из своих работ любые упоминания психической жизни и попытки интроспекции, так как подобные вещи нельзя наблюдать, измерять или использовать для выработки общих правил человеческого поведения. Чувства, мысли, планы, желания, мотивы и ценности (внутренние состояния и личные ощущения, которые делают нас людьми и которые психоанализ выдвинул на первый план) считались недоступными для экспериментальной науки и ненужными науке о поведении. Бихевиористы были убеждены, что всю нашу психологическую деятельность можно удовлетворительно объяснить, не рассматривая подобных психических явлений.
Психоанализ, с которым я познакомился благодаря родителям Анны, был бесконечно далек от скиннеровского бихевиоризма. Более того, Эрнст Крис приложил немало усилий, чтобы преодолеть разногласия между ними. Он доказывал, что прелесть психоанализа во многом и состоит в том, что он, подобно бихевиоризму, стремится к объективности, к отказу от выводов, сделанных путем интроспекции. Фрейд говорил, что человек не может разобраться в своих собственных бессознательных процессах, заглянув внутрь самого себя, и только специально обученный, непредвзятый внешний наблюдатель (психоаналитик) способен выявить содержание бессознательного другого человека. Фрейд тоже ценил доступные для наблюдения экспериментальные свидетельства, но считал внешнее поведение лишь одним из многих путей исследования внутренних состояний, как сознательных, так и бессознательных. Фрейд в не меньшей степени интересовался внутренними процессами, определяющими реакции человека на определенные раздражители, чем реакциями как таковыми. Психоаналитики школы Фрейда доказывали, что, ограничивая исследование поведения анализом доступных для наблюдения измеримых действий, бихевиористы игнорируют важнейшие из вопросов, связанных с психическими явлениями.
Гитлер с юных лет мечтал об объединении Австрии и Германии. В связи с этим программа немецкой нацистской партии, отчасти бравшей за образец австрийских нацистов, с самого своего возникновения в двадцатых годах включала пункт об объединении немецкоговорящего народа в Великую Германию. Осенью 1936 года Гитлер начал претворять этот пункт в жизнь. Придя в 1933 году к власти в Германии, в 1935?м он восстановил воинскую повинность, а в следующем году приказал войскам вновь занять Рейнскую область – немецкоговорящий регион, по условиям Версальского договора демилитаризованный и поставленный под надзор Франции. После этого его выступления стали агрессивнее, и теперь в них содержалась угроза нападения на Австрию. Шушниг мечтал умиротворить Гитлера, в то же время сохранив независимость своей страны, поэтому он отреагировал на угрозы, попросив Гитлера о встрече. Они встретились 12 февраля 1938 года в Берхтесгадене, вблизи австрийской границы, где Гитлер, движимый сентиментальными побуждениями, устроил себе частную резиденцию.
Демонстрируя силу, Гитлер прибыл на эту встречу в сопровождении двух генералов и угрожал вторжением в Австрию, если Шушниг не отменит ограничения, наложенные на деятельность австрийской нацистской партии, и не назначит троих нацистов на ключевые министерские должности. Шушниг отказался. Но Гитлер усилил давление, и в тот же день обессиленный канцлер в конце концов сдался, согласившись легализовать нацистскую партию, выделить ей два министерских портфеля, освободить нацистов, которых держали под стражей как политических заключенных. Но соглашение между Шушнигом и Гитлером только увеличило жажду власти у австрийских нацистов. Ставшие теперь группой немалых размеров, они вышли из подполья и бросили вызов правительству Шушнига, устроив несколько выступлений, которые полиции оказалось непросто подавить. Перед лицом угрозы гитлеровской агрессии извне и восстания австрийских нацистов изнутри Шушниг перешел в наступление и решительно объявил о референдуме, который должен был состояться 13 марта, всего через месяц после его встречи с Гитлером. Вопрос, вынесенный на этот референдум, был прост: должна ли Австрия остаться свободной и независимой, да или нет?
Этот смелый шаг Шушнига, высоко оцененный моими родителями, встревожил Гитлера, так как казалось почти несомненным, что референдум закончится победой сторонников независимости Австрии. Гитлер отреагировал, мобилизовав войска и пригрозив вторжением, если Шушниг не перенесет референдум, не подаст в отставку и не сформирует правительство, которое должен был возглавить новый канцлер – австрийский нацист Артур Зейсс-Инкварт. Шушниг обратился за помощью к Великобритании и Италии – двум странам, которые до этого поддерживали независимость Австрии. К ужасу венских либералов, таких как мои родители, ни одна из этих стран не отреагировала. Покинутый потенциальными союзниками, стремясь избежать бессмысленного кровопролития, вечером 11 марта Шушниг подал в отставку.
Несмотря на то что президент Австрии согласился на все требования Германии, на следующий день Гитлер начал вторжение.
Дальнейшее оказалось сюрпризом. Вместо толп возмущенных австрийцев Гитлера восторженно встречало ощутимое большинство населения. Как отметил Джордж Беркли, это резкое превращение граждан, еще вчера кричавших о своей верности Австрии и поддерживавших Шушнига, в людей, приветствующих гитлеровские войска как “германских братьев”, нельзя объяснить просто выходом десятков тысяч нацистов из подполья. То, что произошло, представляло собой скорее одно из “самых быстрых и полных массовых обращений в новую веру” во всей человеческой истории. Как писал об этом впоследствии Ханс Ружичка, “это – люди, которые рукоплескали императору, а затем проклинали его, которые приветствовали демократию после свержения императора, а затем аплодировали [дольфусовскому] фашизму, когда к власти пришел новый режим. Сегодня такой человек нацист, завтра он будет кем?нибудь еще”.
Австрийская пресса не стала исключением. В пятницу 11 марта Reichspost, одна из ведущих газет страны, поддерживала Шушнига. Два дня спустя та же газета на первой странице опубликовала редакторскую статью, озаглавленную “К исполнению”, в которой говорилось: “Благодаря гению и решимости Адольфа Гитлера час всегерманского единства настал”.
Злобные нападки на евреев, начавшиеся в середине марта 1938 года, достигли апогея восемь месяцев спустя, во время Хрустальной ночи. Когда я впоследствии читал об этом, я узнал, что отчасти ночь была вызвана событиями 28 октября 1938 года. В тот день нацисты депортировали семнадцать тысяч евреев, происходивших из Восточной Европы, бросив их на произвол судьбы возле городка Збоншинь на границе Германии и Польши. В то время нацисты по?прежнему рассматривали эмиграцию, добровольную или насильственную, как способ решения “еврейского вопроса”. Утром 7 ноября семнадцатилетний еврейский юноша Гершель Гриншпан, взбешенный депортацией его родителей в Збоншинь из их дома в Германии, застрелил Эрнста фон Рата, третьего секретаря посольства Германии в Париже, по ошибке приняв его за германского посла. Два дня спустя, используя это событие как предлог, чтобы обрушиться на еврейство, организованные толпы подожгли большинство синагог в Германии и Австрии.
Из всех городов, бывших под властью нацистов, Вена пала особенно низко. Над евреями издевались и жестоко били, выгоняли с предприятий и временно выселяли из домов, после чего их предприятия и дома грабили алчные соседи. Наша прекрасная синагога на Шопенгауэрштрассе была полностью уничтожена. Симон Визенталь, ведущий охотник за нацистами после Второй мировой войны, впоследствии говорил, что “по сравнению с Веной Хрустальная ночь в Берлине была милым рождественским праздником”.
В день Хрустальной ночи моего отца задержали, а его магазин конфисковали и передали новому владельцу, нееврею. Это делалось в порядке так называемой ариизации (Ariesierung) собственности – узаконенной нацистами формы грабежа. С середины ноября 1938 года, когда моего отца выпустили из?под стражи, до августа 1939?го, когда они с мамой уехали из Вены, мои родители очень бедствовали. Как я узнал намного позже, они получали продовольствие, а отец – иногда и возможность работать, например переносить мебель, от Israelitische Kultusgemeinde der Stadt Wien – Еврейской общины города Вены.
Мои родители знали об антиеврейских законах, введенных в Германии после прихода Гитлера к власти, и понимали, что насилие в Вене теперь едва ли утихнет. Они были уверены, что нам нужно уезжать, причем как можно скорее. Брат моей мамы, Берман Цимельс, лет десять назад переехал из Австрии в Нью-Йорк, где устроился работать бухгалтером. Мама написала ему 15 марта 1938 года, всего через три дня после вступления Гитлера в Вену, и он быстро прислал нам заверенные нотариусом письма, гарантирующие американским властям, что он обеспечит нас средствами к существованию в Соединенных Штатах. Однако в 1924 году Конгресс принял закон об иммиграции, устанавливавший квоты на число иммигрантов в Соединенные Штаты из стран Восточной и Южной Европы. Так как мои родители родились на территории, которая теперь входила в состав Польши, нам потребовалось около года дожидаться повышения квоты, несмотря на то что в нашем распоряжении были требуемые гарантийные письма. Когда размер квоты был наконец объявлен, нам пришлось эмигрировать поэтапно, тоже из?за законов об иммиграции, где оговаривался порядок, в котором члены одной семьи имели право въезжать в Соединенные Штаты. Согласно этому порядку первыми могли приехать родители моей мамы, что они и сделали в феврале 1939 года, затем, в апреле, мы с братом и, наконец, родители – в конце августа, всего за несколько дней до того, как разразилась Вторая мировая война.
Из-за того что у моих родителей отняли их единственный источник дохода, у нас не было денег на дорогу до Соединенных Штатов. Поэтому родители подали прошение в Еврейскую общину, чтобы им оплатили полтора билета на корабль компании Holland America Line: один билет для моего брата и полбилета для меня. Несколько месяцев спустя они подали прошение об оплате двух билетов для них самих. Нам повезло, что оба прошения удовлетворили. Мой отец был честным, добросовестным человеком и всегда вовремя платил по счетам. У меня сейчас находятся все документы, которые прилагались к его прошению, и они показывают, как исправно он платил свои членские взносы в Еврейскую общину. В аттестации, приложенной сотрудником общины к прошению отца, особо отмечается, что это человек достойный, с безупречной репутацией.
Последний год в Вене сыграл в моей жизни определяющую роль. Разумеется, он заронил во мне чувство глубокой, неизменной благодарности за жизнь, выпавшую мне в Соединенных Штатах. Но несомненно и то, что зрелище Вены под властью нацистов было также моим первым знакомством с темной, садистской стороной человеческого поведения. Как понять эту дикую жестокость, внезапно охватившую столь многих людей? Как могло высокообразованное общество так быстро принять политику карательных мер, в основе которой лежат ненависть и презрение к целому народу?
Ответить на эти вопросы сложно. Многие исследователи пытались предложить свои обрывочные и противоречивые ответы. Один из выводов, который будоражит мои чувства, состоит в том, что качество культуры того или иного общества не может служить надежным показателем его уважения к человеческой жизни. Культура просто не способна избавить людей от их склонностей и преобразовать их образ мышления. Стремление уничтожать людей, не принадлежащих к собственной группе, может быть врожденным и возбуждаться почти в любой сплоченной группе.
Я сильно сомневаюсь, что какие?либо из подобных псевдогенетических наклонностей могли бы работать в полном вакууме. Немцы в целом не разделяли озлобленного антисемитизма австрийцев. Почему же тогда культурные ценности венцев так кардинально разошлись с их моральными ценностями? Разумеется, поведение венцев в 1938 году во многом объясняется чистым оппортунизмом. Успехи еврейского сообщества – экономические, политические, культурные и академические – вызывали зависть и жажду мести у неевреев, особенно в университетской среде. Процент членов нацистской партии среди университетских преподавателей намного превосходил таковой среди населения в целом. В результате венцы-неевреи стремились продвинуться в своей профессии, заняв места преуспевших евреев, – и евреи, работавшие университетскими преподавателями, юристами и врачами, быстро остались без работы. Многие венцы просто присвоили себе жилье и имущество евреев. В результате, как показало подробное исследование этого периода, которое провели Тина Вальцер и Штефан Темпль, “большое число адвокатов, судей и врачей в 1938 году повысило уровень собственного благосостояния, ограбив своих ближних – евреев. Успех многих австрийцев в наши дни основан на деньгах и собственности, украденных шестьдесят лет назад”.
Еще одно объяснение этого расхождения культурных и моральных ценностей связано с переходом от культурной формы антисемитизма к расовой. Культурный антисемитизм основан на представлении о “еврейскости” как религиозной или культурной традиции, передаваемой путем обучения, через особые обычаи и образование. Эта форма антисемитизма приписывает евреям определенные отталкивающие психологические и социальные особенности, приобретаемые путем усвоения культуры, например неодолимое стремление к наживе. Однако такой антисемитизм также предполагает, что, поскольку еврейскость приобретается воспитанием в еврейской семье, эти особенности можно и устранить через образование или обращение в иную веру, когда еврей или еврейка преодолевает свое еврейство. Еврей, обратившийся в католицизм, в принципе может быть ничем не хуже любого другого католика.
Считается, что расовый антисемитизм, напротив, происходит из убеждения, что евреи как раса генетически отличаются от других рас. Это представление восходит к доктрине богоубийства, которой долгое время учила Римско-католическая церковь. Как доказывал Фредерик Швейцер, католик, изучавший историю евреев, эта доктрина и положила начало представлениям о том, что евреи повинны в смерти Христа (до недавнего времени Католическая церковь не отрекалась от этих представлений). Согласно Швейцеру, эта доктрина предполагала, что евреи, виновные в богоубийстве, как раса обладают врожденным недостатком человечности и поэтому должны генетически отличаться от других людей, быть недолюдьми. Значит, их можно без сожаления исключить из числа человеческих рас. Расовый антисемитизм был обоснован испанской инквизицией в начале xiv века и воспринят в семидесятых годах xix века некоторыми австрийскими (и немецкими) интеллектуалами, в числе которых были Георг фон Шенерер, лидер пангерманских националистов в Австрии, и Карл Люгер, венский бургомистр. Хотя до 1938 года расовый антисемитизм и не был в Вене господствующей политической силой, после марта этого года он приобрел статус официальной государственной политики.
После того как расовый антисемитизм пришел на смену культурному, ни один еврей уже никак не мог стать “истинным” австрийцем. Обращение (религиозного свойства) стало невозможным. Единственно возможным решением еврейского вопроса оставалось изгнание или истребление евреев.
Мы с братом выехали в Брюссель на поезде в апреле 1939 года. Мне, девятилетнему, было очень тяжело покидать родителей, хотя отец не терял оптимизма, а мама невозмутимо уверяла, что все будет в порядке. Когда мы доехали до границы Германии с Бельгией, поезд ненадолго остановился, и в вагон вошли немецкие таможенники. Они потребовали, чтобы мы показали им ювелирные изделия и любые другие ценные вещи, которые могли у нас быть. Молодая женщина, ехавшая вместе с нами, предупреждала нас с Людвигом о возможности такого требования. Поэтому я спрятал в кармане небольшое золотое колечко с моими инициалами, подаренное мне на семилетие. Страх, который я всегда испытывал в присутствии нацистов, стал почти невыносимым, когда они зашли в поезд, и я очень боялся, что они найдут это колечко. К счастью, они не обратили на меня особого внимания, и я остался дрожать незамеченным.
В Брюсселе мы остановились у тети Минны и дяди Сруля. Солидные финансовые средства дали им возможность приобрести визу, позволившую въехать в Бельгию и поселиться в Брюсселе. Они собирались переехать к нам в Нью-Йорк через несколько месяцев. Из Брюсселя мы с Людвигом поехали на поезде в Антверпен, где сели на пароход “Герольдштейн” компании Holland America Line и через десять дней прибыли в город Хобокен в штате Нью-Джерси, проследовав мимо гостеприимно приветствовавшей нас статуи Свободы.
3. Американское образование
Приехав в Соединенные Штаты, я словно заново родился. Я еще не предвидел этого и не знал языка, чтобы сказать: “Free at last”[4 - Free at last – наконец свободен (англ.).], но сразу почувствовал, и чувство это осталось во мне навсегда. Джеральд Холтон, историк науки из Гарвардского университета, отметил, что для многих венских эмигрантов моего поколения полученное в Вене отличное образование в сочетании с чувством освобождения по прибытии в Америку высвободили безграничную энергию и вдохновили нас на то, чтобы мыслить по?новому. Это в полной мере относится и ко мне. Среди многого другого, что дала мне эта страна, было превосходное гуманитарное образование, полученное в Еврейской школе Флэтбуша, средней школе Эразмус-холл и Гарвардском колледже.
Мы с братом поселились у маминых родителей, Герша и Доры Цимельс, приехавших в Бруклин в феврале 1939 года, за два месяца до нас. Я совсем не говорил по?английски и чувствовал, что мне нужно приспосабливаться к новой жизни. Поэтому я отбросил последнюю букву моего имени, Эрих (Erich), и стал пользоваться им в нынешнем написании. С Людвигом произошло еще более серьезное превращение – в Льюиса. Наши тетя Паула и дядя Берман, жившие в Бруклине с тех пор, как в двадцатые годы они приехали в Соединенные Штаты, устроили меня в государственную начальную школу №?217, расположенную в квартале Флэтбуш недалеко от дома, где мы жили. Я ходил в эту школу только двенадцать недель, но к началу летних каникул уже умел достаточно хорошо говорить по?английски, чтобы меня понимали. В то лето я перечитал книгу Эриха Кестнера “Эмиль и сыщики” – одну из любимых книг моего детства, на этот раз на английском, и был искренне горд этим достижением.
Мне не очень нравилось в школе №?217. Туда ходили и многие другие еврейские дети, но я тогда этого не понимал. Мне как раз казалось, что, раз среди учеников так много светловолосых и голубоглазых, значит, они не евреи, и я боялся, что рано или поздно они станут относиться ко мне враждебно. Поэтому я охотно поддался на уговоры дедушки и перешел в еврейскую приходскую школу. Дедушка был весьма религиозным и ученым человеком, хотя и немного не от мира сего. Мой брат сказал, что наш дедушка – единственный известный ему человек, который умеет говорить на семи языках, но на всех говорит так, что ничего не понятно. Дедушка мне очень нравился, а я нравился ему, и он без труда убедил меня в течение лета заниматься с ним ивритом, чтобы осенью я мог поступить в Еврейскую школу Флэтбуша. В программу этой знаменитой дневной еврейской школы входили уроки светских дисциплин на английском и религиозные занятия на иврите, и то и другое с очень высоким уровнем требований.
Дедушкины уроки позволили мне осенью 1939 года поступить в эту школу. Когда в 1944 году я ее окончил, я знал иврит почти так же хорошо, как английский. Я прочитал на иврите Пятикнижие, Книги Царств, Книги Пророков и кое?что из Талмуда. Впоследствии я почувствовал и радость, и гордость, когда узнал, что Барух Бламберг, который в 1976 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине, тоже был из числа людей, получивших прекрасное образование в Еврейской школе Флэтбуша.
Мои родители уехали из Вены в конце августа 1939 года. Незадолго до их отъезда моего отца еще раз арестовали и привезли на Венский футбольный стадион, где допрашивали и запугивали “коричневые рубашки” из Sturm Abteilung (SA). Но после того, как выяснилось, что он получил американскую визу и собирается уехать, его освободили, и это, возможно, спасло ему жизнь.
Когда мои родители приехали в Нью-Йорк, отец, который ни слова не знал по?английски, нашел себе работу на фабрике, производившей зубные щетки. В Вене зубная щетка была символом его унижения, но в Нью-Йорке с нее начался его путь к лучшей жизни. Хотя ему и не нравилась эта работа, он взялся за нее со своим обычным рвением и вскоре получил выговор от представителя профсоюза за то, что делал очень много щеток за единицу времени, создавая впечатление, что другие работают слишком медленно. Но отца это не остановило. Он всей душой полюбил Америку. Как и многие другие иммигранты, он нередко называл ее goldene Medina – золотой страной, сулившей евреям безопасность и демократию. Еще в Вене он читал романы Карла Мая, мифологизировавшие покорение американского Запада и храбрость американских индейцев, и им тоже по?своему овладел дух Фронтира.
Со временем мои родители накопили достаточно денег, чтобы взять в аренду и обустроить скромный магазин одежды. Они работали вместе, продавая простые женские платья и фартуки, а также мужские рубашки, галстуки, нижнее белье и пижамы. Мы сняли квартиру над этим магазином, в доме номер 411 по Черч-авеню в Бруклине. Родители зарабатывали достаточно не только для жизни, но и на то, чтобы через некоторое время выкупить дом, в котором находились магазин и квартира. Кроме того, они смогли оплачивать мое обучение в колледже и медицинской школе.
Родители были так заняты своим магазином, источником финансового благополучия себя и своих детей, что совсем не приобщались к культурной жизни Нью-Йорка, которой мы с Льюисом начали увлекаться. И все же, несмотря на их вечные труды, они не теряли оптимизма и всегда поддерживали нас, никогда не пытаясь навязывать свои решения в том, что касалось работы и развлечений. Мой отец был честен и принципиален до одержимости: он считал своим долгом немедленно платить по всем счетам за товары, приходившие от поставщиков, и нередко дважды пересчитывал сдачу, перед тем как отдать ее покупателю. От нас с Льюисом он ожидал такой же щепетильности в финансовых вопросах. Но помимо ожидания того, что я буду вести себя разумно и корректно, я никогда не чувствовал с его стороны никакого давления в выборе специальности. Я, в свою очередь, никогда и не ждал от него советов по этим вопросам, учитывая его скромный опыт в социальной и образовательной сферах. За советами я обычно обращался к матери или, чаще, к брату, преподавателям и особенно часто – к своим друзьям.
Отец оставил работу в магазине лишь за неделю до смерти, в 1977 году, когда ему было семьдесят девять. Вскоре после этого мама продала и магазин, и дом, в котором он располагался, и переехала в более комфортабельную и немного более богатую квартиру неподалеку, на Оушн-Паркуэй. Она умерла в 1991 году, когда ей было девяносто четыре.
Когда в 1944 году я окончил Еврейскую школу Флэтбуша, она еще не была связана, как сегодня, с определенной средней школой, поэтому я пошел в Эразмус-холл – местную государственную среднюю школу, отличавшуюся очень высоким уровнем образования. Там я увлекся историей, литературной деятельностью и девушками. Я писал статьи для школьной газеты The Dutchman
и стал редактором ее спортивного раздела. Я также играл в футбол и был одним из капитанов команды по легкой атлетике (рис. 3–1). Второй капитан, Рональд Берман, один из моих самых близких школьных друзей, был превосходным бегуном и однажды выиграл состязание по бегу на полмили в городском чемпионате (я пришел пятым). Впоследствии Рон стал шекспироведом и профессором английской литературы в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Он был председателем Национального фонда гуманитарных наук в администрации президента Никсона.
Мой учитель истории, Джон Кампанья, выпускник Гарварда, убедил меня подать документы в Гарвардский колледж. Когда я впервые заговорил о поступлении в Гарвард с родителями, отец (который, как и я, плохо представлял себе, чем отличаются друг от друга разные американские университеты) отговаривал меня, потому что подавать документы в еще один колледж было дорого. Я тогда уже подал документы на поступление в Бруклинский колледж – прекрасное учебное заведение, в котором ранее учился мой брат. Узнав об опасениях отца, мистер Кампанья вызвался из собственного кармана заплатить за меня пятнадцать долларов, необходимых для подачи документов. Я был одним из двух поступивших в Гарвард студентов нашего выпуска из 1150 человек (другим был Рон Берман), причем мы оба получили стипендию. После этого мы оценили истинный смысл гарвардского гимна – Fair Harvard. Действительно, fair Harvard[5 - The Dutchman – “Голландец”. Школа Эразмус-холл названа в честь Эразма Роттердамского, а он был голландцем.]!
3–1. Команда-победительница на Пенсильванской эстафете 1948 года. Пенсильванская эстафета – это ежегодное общенациональное соревнование по легкой атлетике для школьников и студентов колледжа. Мы выиграли состязание по бегу на одну милю для школьников. (Фото любезно предоставил Рон Берман.)
Слева направо: Джон Ракер, Эрик Кандель, Джон Бартел, Рональд Берман, Питер Маннус
Хотя я был очень взволнован своей удачей и бесконечно благодарен мистеру Кампанье, я с тревогой покидал Эразмус-холл в полной уверенности, что мне уже никогда не доведется испытать безграничную радость, которую мне давали ощущение социализации и успехи в учебе и спорте в этой школе. В еврейской школе я был просто способным учеником. В Эразмусе я стал не только способным учеником, но и спортсменом. Для меня это была огромная разница. Именно в Эразмусе я впервые почувствовал, что перестал находиться в тени брата, которая так тяготила меня в годы нашей учебы в Вене. У меня впервые были свои собственные увлечения.
В Гарварде я специализировался на истории и литературе современной Европы. Это была специализация по выбору, которая требовала подготовить на последнем курсе[6 - Обучение в Гарвардском колледже (как и в других американских колледжах высшей ступени) занимает четыре года. Выпускники колледжа получают диплом бакалавра.] исследовательскую курсовую. Те и только те, кто выбирал эту специальность, имели право получать консультации начиная со второго курса вначале небольшими группами, а затем в индивидуальном порядке. Моя исследовательская работа была посвящена отношению к национал-социализму трех немецких писателей: Карла Цукмайера, Ханса Кароссы и Эрнста Юнгера. Эти трое были представителями разных позиций, отражавших широкий спектр реакций немецких интеллектуалов на наступление нацизма. Цукмайер, бесстрашный либерал, всегда осуждавший нацизм, рано покинул Германию и переехал вначале в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. Каросса, врач и поэт, занял нейтральную позицию и телом остался в Германии, хотя его душа, как он утверждал, бежала в другие края. Юнгер, лихой германский офицер в годы Первой мировой войны, воспевал духовные добродетели войны и воинов и был идейным предтечей нацистов.
Я пришел к неутешительному выводу, что многие немецкие художники и интеллектуалы, в том числе такие, казалось бы, утонченные умы, как Юнгер, или великий философ Мартин Хайдеггер, или дирижер Герберт фон Караян, с готовностью и рвением поддались националистическому пылу и расистской пропаганде национал-социализма. Последующие исследования Фрица Штерна и других историков показали, что в первый год правления Гитлера у него не было широкой народной поддержки. Если бы интеллектуалы сумели успешно мобилизоваться и повести за собой какие?то слои населения, они вполне могли бы остановить или хотя бы сильно ограничить Гитлера в его стремлении к абсолютной власти.
Я начал работать над своей курсовой на третьем курсе, в то время когда еще собирался после колледжа заниматься историей европейской культуры. Однако ближе к концу третьего курса я познакомился с Анной Крис, студенткой Рэдклифф-колледжа[7 - Рэдклифф-колледж был женским колледжем Гарвардского университета (впоследствии его объединили с Гарвардским колледжем).], которая тоже эмигрировала из Вены, и влюбился в нее. В то время я ходил на два курса семинаров Карла Фиетора: один был посвящен великому немецкому поэту Гете, другой – современной немецкой литературе. Фиетор был одним из самых выдающихся специалистов по немецкой культуре в Соединенных Штатах, а кроме того, талантливым и харизматичным преподавателем, и он поддерживал мое намерение продолжить заниматься немецкой историей и литературой. Он написал две книги о Гете (одну о его молодости, другую о нем как о зрелом поэте) и новаторское исследование, посвященное Георгу Бюхнеру, сравнительно малоизвестному драматургу, которого Фиетор помог заново открыть. За свою короткую жизнь Бюхнер успел написать одно из первых реалистических и экспрессионистских произведений – неоконченную пьесу “Войцек”, первую драму, изображающую простого, бестолкового человека как личность героических пропорций. Пьеса была опубликована лишь после смерти Бюхнера от брюшного тифа в 1837 году (в возрасте двадцати четырех лет), и впоследствии Альбан Берг переделал ее в либретто оперы (“Воццек”) и положил на музыку.
Анне очень нравилось, что я так хорошо знаком с немецкой литературой, и первое время мы не раз проводили вечера вместе за чтением немецких стихов – Новалиса, Рильке и Штефана Георге. На четвертом курсе я собирался выбрать еще два курса семинаров Фиетора. Но он внезапно умер от рака. Его смерть была для меня личным горем. Кроме того, из?за нее у меня оказалось много пустого места в учебном расписании, которое я уже спланировал. За несколько месяцев до смерти Фиетора я познакомился с родителями Анны, Эрнстом и Марианной Крис, двумя известными психоаналитиками из круга Фрейда. Общение с ними подогрело мой интерес к психоанализу и изменило мои представления о том, чем можно занять освободившееся теперь место в моем расписании.
Трудно передать сегодня ту притягательную силу, которую излучал психоанализ для молодых людей пятидесятых годов. Например, была разработана теория психики, которая позволила мне впервые оценить сложность человеческого поведения и мотиваций, лежащих в его основе. В ходе занятий по курсу Фиетора о современной немецкой литературе я прочитал книгу Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, а также произведения трех других авторов, интересовавшихся внутренними механизмами человеческой психики: Артура Шницлера, Франца Кафки и Томаса Манна. Даже в сравнении с сочинениями этих титанов литературы прозу Фрейда было приятно читать. Его немецкий, за который он в 1930 году получил премию Гете, был прост, кристально ясен и полон юмора и бесконечных отсылок к его собственным трудам. Эта книга открыла мне новый мир.
“Психопатология обыденной жизни” содержит ряд историй, настолько глубоко вошедших в нашу культуру, что сегодня они могли бы послужить сценарием для фильма Вуди Аллена или материалами для выступлений эстрадного сатирика. Фрейд подробно описывает совершенно обыденные, казалось бы, непримечательные события – оговорки, странные случайности, ситуации, когда люди кладут предметы не на место, неправильно пишут слова, не могут что?то запомнить, – и на этих примерах показывает, что человеческая психика подчиняется определенному набору правил, большинство из которых имеет бессознательную природу. На первый взгляд все эти недоразумения кажутся обыкновенными ошибками, незначительными случайностями, которые происходят с каждым (со мной они определенно происходили). Но Фрейд помог мне понять, что ни одна из этих ошибок не случайна. Каждая из них последовательно и объяснимо связана с остальной психической жизнью человека. Меня особенно поразило, что Фрейд написал все это, не будучи знакомым с моей тетей Минной!
Затем Фрейд доказывал, что психологический детерминизм (представление о том, что мало что, если вообще что?то, происходит в нашей психической жизни случайно, а каждое психологическое событие определяется предшествующим) играет ключевую роль не только в нормальной психической жизни, но и в психических заболеваниях. Любой симптом нервного расстройства, каким бы странным он ни казался, не странен для нашего бессознательного начала и связан с другими предшествующими психическими явлениями. Связь между оговоркой и ее причиной, между симптомом и лежащим в его основе когнитивным процессом кроется в работе защитных механизмов (вездесущих, динамичных, бессознательных психических процессов), которые приводят к непрерывной борьбе между саморазоблачающими и самозащитными психическими событиями. Психоанализ сулил возможность самопонимания и даже успешной терапии с помощью анализа бессознательных мотиваций и защитных механизмов, лежащих в основе человеческих поступков.
Что особенно привлекало меня в психоанализе во время учебы в колледже, так это то, что он совмещал в себе работу воображения, всесторонность и эмпирическую базу (по крайней мере, так мне по наивности казалось). Никакие другие представления о психической жизни и близко не дотягивали до психоанализа по диапазону приложения или тонкости объяснений.
В самом деле, вплоть до конца xix века у людей не было иных подходов к тайнам человеческой психики, кроме философской интроспекции (анализа собственных мыслей специально подготовленными наблюдателями) и откровений великих писателей, таких как Джейн Остин, Чарльз Диккенс, Федор Достоевский и Лев Толстой. Чтение всего этого вдохновляло меня в первые годы обучения в Гарварде. Однако, как я узнал от Эрнста Криса, ни подобный самоанализ, ни художественные откровения не могли обеспечить систематического накопления знаний, необходимых для заложения фундамента науки о психике. Ее фундамент требовал большего, чем откровения, – экспериментальных данных. Поэтому ощутимые успехи экспериментальной науки в области астрономии, физики и химии вдохновили исследователей психики на разработку экспериментальных методов изучения поведения.
Поиск таких методов начался с идеи Чарльза Дарвина, что человеческое поведение развилось в ходе эволюции из поведенческого репертуара наших животных предков. Эта идея положила начало представлению о том, что подопытных животных можно использовать в качестве моделей для изучения человеческого поведения. Российский физиолог Иван Павлов и американский психолог Эдвард Торндайк проверяли на животных выводы, следующие из философского представления о том, что мы обучаемся посредством ассоциации идей, впервые сформулированного Аристотелем и впоследствии разработанного Джоном Локком. Павлов открыл выработку классических условных рефлексов – способ научить животное ассоциировать два раздражителя. Торндайк же открыл выработку инструментальных условных рефлексов, при которой животное учат ассоциировать поведенческую реакцию с ее последствиями. Эти два механизма обучения заложили фундамент научного исследования обучения и памяти не только у простых животных, но и у человека. На смену предположению Аристотеля и Локка, что обучение включает ассоциацию идей, пришел эмпирический факт, что обучение происходит путем ассоциации двух раздражителей или раздражителя и вызываемой им реакции.
В ходе исследований выработки классических условных рефлексов Павлов открыл две неассоциативные формы обучения: привыкание и сенсибилизацию. При этих формах животное обучается только свойствам единственного раздражителя и не учится ассоциировать два раздражителя друг с другом. При привыкании животное учится игнорировать раздражитель в связи с его малозначительностью, в то время как при сенсибилизации оно обучается обращать внимание на раздражитель в связи с его важностью.
Открытия Торндайка и Павлова оказали огромное влияние на психологию, положив начало бихевиоризму – первой школе эмпирического анализа обучения. Бихевиоризм сулил надежду, что поведение можно будет изучать такими же точными методами, как те, что применяются в естественных науках. К тому времени, как я поступил в Гарвард, ведущим поборником бихевиоризма стал Беррес Фредерик Скиннер. Я познакомился с его идеями в ходе разговоров с друзьями, посещавшими его курсы. Скиннер следовал философскому пути, намеченному основателями бихевиоризма. Общими усилиями они сузили кругозор бихевиоризма, настаивая на том, что подлинно научная психология должна ограничиваться лишь доступными для всеобщего наблюдения и объективного измерения аспектами поведения. Это не оставляло места для интроспекции.
Поэтому Скиннер и другие бихевиористы сосредоточились исключительно на доступном для наблюдения поведении и исключили из своих работ любые упоминания психической жизни и попытки интроспекции, так как подобные вещи нельзя наблюдать, измерять или использовать для выработки общих правил человеческого поведения. Чувства, мысли, планы, желания, мотивы и ценности (внутренние состояния и личные ощущения, которые делают нас людьми и которые психоанализ выдвинул на первый план) считались недоступными для экспериментальной науки и ненужными науке о поведении. Бихевиористы были убеждены, что всю нашу психологическую деятельность можно удовлетворительно объяснить, не рассматривая подобных психических явлений.
Психоанализ, с которым я познакомился благодаря родителям Анны, был бесконечно далек от скиннеровского бихевиоризма. Более того, Эрнст Крис приложил немало усилий, чтобы преодолеть разногласия между ними. Он доказывал, что прелесть психоанализа во многом и состоит в том, что он, подобно бихевиоризму, стремится к объективности, к отказу от выводов, сделанных путем интроспекции. Фрейд говорил, что человек не может разобраться в своих собственных бессознательных процессах, заглянув внутрь самого себя, и только специально обученный, непредвзятый внешний наблюдатель (психоаналитик) способен выявить содержание бессознательного другого человека. Фрейд тоже ценил доступные для наблюдения экспериментальные свидетельства, но считал внешнее поведение лишь одним из многих путей исследования внутренних состояний, как сознательных, так и бессознательных. Фрейд в не меньшей степени интересовался внутренними процессами, определяющими реакции человека на определенные раздражители, чем реакциями как таковыми. Психоаналитики школы Фрейда доказывали, что, ограничивая исследование поведения анализом доступных для наблюдения измеримых действий, бихевиористы игнорируют важнейшие из вопросов, связанных с психическими явлениями.