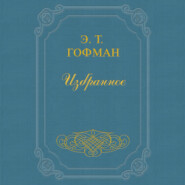По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Житейские воззрения кота Мурра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как я ни отгонял от себя этот мотив, он не хотел оставить меня. Я восклицал:
Спускаются боги с Олимпа
При свете лучистого дня…
А назойливая мелодия неустанно жужжала мне в уши:
Любил я одну лишь Йемену,
И Йемена любила меня…
Наконец я заснул. Меня разбудили громкие голоса в то время, как невыносимый запах лез мне в нос, отчего у меня спиралось дыхание. Вся комната была наполнена густым дымом. Дядя, как в облаке, стоял около гардеробного шкафа, топтал остатки горевших занавесей и кричал: «Воды, воды!», пока, наконец, старый лакей не принес столько воды, что она залила весь пол и совершенно погасила огонь. Дым медленно тянулся через окно. «Где же бедокур?» – спросил дядя, осматривая с огнем всю комнату. Я отлично знал, про какого бедокура он спрашивал и, как мышь, притаился в постели. Дядя подошел ко мне и заставил подняться гневным окриком: «Встать сейчас же» «Ты что это, злодей, – продолжал он, – хочешь весь дом поджечь!» На дальнейшие расспросы я совершенно спокойно удостоверил, что, подобно мальчику Руссо, написавшему «Исповедь», я лежал в постели, сочиняя Opera seria[32 - Серьезную оперу (ит.).], и совершенно не знаю, как произошел пожар. «Руссо? Сочинял? Opera seria? Олух!» – лепетал, задыхаясь, дядя и вдруг дал мне пощечину – вторую по счету – такую сильную, что я внезапно замолчал от страха и в то же самое мгновение совершенно явственно услышал, точно созвучие к удару: «Любил я одну лишь Йемену…» Как по отношению к этой песне, так и по отношению к композиторскому вдохновению я получил с той минуты живейшее отвращение.
– Но как же произошел пожар? – спросил тайный советник.
– До сих пор я не могу понять, каким образом вспыхнули занавеси, увлекши за собой к гибели прекрасный дядин шлафрок и три или четыре отличных тупея. Мне всегда представлялось, что я получил пощечину не за пожар, в котором вина была не моя, а за предпринятую мной композицию. Довольно странно, что дядя только настаивал на моих занятиях музыкой, несмотря на то, что учитель, обманутый мгновенным отвращением к ней, проявившимся у меня, счел меня за существо, абсолютно лишенное музыкальных способностей. Что касается другого, дяде было решительно все равно, учусь я или не учусь. Так как он неоднократно высказывал живейшее неудовольствие по поводу того, что меня трудно заставить заниматься музыкой, можно было бы ожидать, что он будет очень обрадован, когда спустя два года музыкальный талант проявился во мне необычайно; на самом деле ничего подобного не случилось. Дядя улыбнулся только слегка, когда заметил, как быстро и виртуозно я овладеваю различными инструментами, и когда, к удовольствию знатоков и мейстера, я сочинил одну небольшую вещицу. Он только слегка улыбнулся и с лукавой миной сказал на все похвалы: «Да, племянничек у меня забавный».
– В таком случае мне непонятно, – проговорил тайный советник, – почему дядя не предоставил полную свободу твоим склонностям, а заставил тебя избрать другую жизненную карьеру. Насколько я знаю, ты совсем недавно сделался капельмейстером.
– Да и недалеко пошел, – с улыбкой воскликнул мейстер Абрагам, представляя на стене изображение какого-то удивительного маленького человечка. – Я должен теперь заступиться за славного дядю, которого некий бесславный племянник называл О weh Onkel[33 - Увы, дядя (нем.).] по первым буквам его имени и фамилии – Оттфрид Венцель. Перед целым миром могу засвидетельствовать, что, если капельмейстеру Иоганну Крейслеру вздумалось сделаться советником при посольстве и навязывать своей натуре совершенно чуждые ей вещи, никто в этом не был менее виноват, чем О wen Onkel.
– Будет об этом, мейстер, – сказал Крейслер, – да уберите заодно дядюшку со стены, потому что, если он и выглядел действительно смешным и жалким, сегодня все же я не могу смеяться над стариком, который давно лежит в могиле.
– Вы нынче решительно берете на себя тон приличной чувствительности, – возразил мейстер, но Крейслер не обратил на него никакого внимания и продолжал, обращаясь к тайному советнику:
– Ты раскаешься в том, что заставил меня разговориться, так как, может быть, ты ждешь каких-нибудь необыкновенных рассказов, а я могу предложить твоему вниманию лишь самые заурядные вещи, повседневно встречающиеся в жизни. Не принуждение воспитателей и не упрямство Рока, а просто обычное течение вещей вынудило меня избрать путь, к которому у меня не было склонности. Замечал ли ты, что в каждой семье есть божок, который вознесен до своего исключительного положения или особенными способностями, или счастливой игрой случая; он является героем, центром, около которого все группируются, милые родственники смотрят на него снизу вверх, своим повелительным голосом он раздает приговоры – и на них нет апелляции. Так было с младшим братом моего дяди, который бежал из музыкального фамильного гнезда, отправился в столицу и в качестве советника при посольстве стал играть довольно важную роль, будучи одним из приближенных князя. Его быстрый успех привел родных в почтительное и не ослабевающее изумление. Имя его стали произносить с серьезной торжественностью, и все мгновенно утихали в немом преклонении, когда кто-нибудь говорил: «Советник при посольстве написал то-то или сказал то-то». Так как с самых ранних лет моего детства я привык смотреть на дядю, живущего в столице, как на личность достигшую высшей цели человеческих стремлений, естественно, я не мог сделать ничего лучшего, как идти по его стопам. Портрет знатного дяди висел в парадной комнате, и самым горячим моим желанием было одеваться и завиваться так, как дядя. Это желание было удовлетворено моим воспитателем: я имел забавный вид десятилетнего мальчика с возносящимся высоко над головой тупеем, нарядно завитым, на мне был надет светло-зеленый камзол с серебряным шитьем, шелковые чулки, а сбоку висела маленькая шпага. По мере того как я делался старше, мое ребяческое честолюбие глубже развивалось в моей душе: я ревностно изучал самые сухие науки, стоило только мне сказать, что эти занятия необходимы мне, если я в будущем желаю сделаться советником при посольстве. Видеть жизненную цель в искусстве, наполнявшем мою душу, я не мог уже потому, что всегда в моем присутствии о музыке, живописи и поэзии говорили, как о вещах, чрезвычайно приятных, назначенных для развлечения и увеселения общества. На пути моем не оказалось никаких препятствий и благодаря помощи дяди и приобретенным знаниям, я стал быстро идти вперед по житейскому поприщу, избранному в известной степени вполне добровольно. Эта быстрота движения не оставляла мне ни одной свободной минуты, когда бы я мог оглянуться вокруг и заметить, что вступил на ложный путь. Цель была достигнута, и не было возврата, когда самым неожиданным образом искусство, которому я изменил, отомстило за себя, мысль о невозвратно утраченной жизни охватила меня, и с безутешной тоской я увидел, что закован в цепи, из которых, казалось, нельзя было вырваться.
– Значит, целебна была катастрофа, освободившая тебя от уз! – воскликнул тайный советник.
– Нет, это не совсем так, – возразил Крейслер. – Освобождение пришло слишком поздно. Со мной было, как с тем заключенным, который после долгого сиденья в тюрьме был, наконец, освобожден, но до такой степени отвык от людской суеты, от яркого света, что не мог уже больше наслаждаться золотой свободой и предпочел вернуться назад в свое заключение.
– Это все ваши выдумки, Иоганн, – вмешался в разговор мейстер Абрагам, – вы мучаете ими и себя, и других. Подите вы! Судьба всегда чрезвычайно благоволила к вам. Но вы никогда не хотели стремиться вперед по прямой дороге, вам нужно было бросаться то влево, то вправо; кто ж виноват в этом, кроме вас самих? Но вы правы в одном: в дни вашего детства над вами горела необыкновенная, особенная звезда, и…
Раздел второй
Жизненные испытания юноши
И я родился в Аркадии
(М. прод.) …Однажды мейстер воскликнул, обращаясь к самому себе: «А ведь было бы забавно и в то же время необыкновенно достопримечательно, если бы маленький седовласый герой, живущий под печкой, обладал всеми качествами, какие приписывает ему профессор! Гм! Думается мне, что он мог бы тогда обогатить меня гораздо больше, чем моя невидимая девица. Я запер бы его в клетку, и он должен был бы показывать свои искусства перед целым светом, который охотно бы заплатил за это хорошую дань. Научнообразованный кот всегда может сделать и сказать гораздо больше, чем скороспелый юноша, напичканный различными экзерцициями. Кроме того, у меня был бы всегда даровой переписчик! Нужно хорошенько исследовать этот вопрос!»
Услыхав слова мейстера, я вспомнил предостережение незабвенной матери моей Мины и, тщательно остерегаясь выказать, что я понял мейстера, твердо решился скрывать свое образование. Я стал читать и писать исключительно ночью, и с благодарностью могу засвидетельствовать при этом, что я увидал особую благость Провидения, даровавшего нашему презираемому роду много преимуществ в сравнении с двуногими существами, которые, бог знает почему, считают себя царями мироздания: когда я занимался по ночам, мне не нужно было ни свечей, ни фабрикации из масла, так как фосфор моих глаз ярко светил в ночной тьме. Несомненно, следовательно, что мои сочинения свободны от упрека, сделанного какому-то античному писателю, что именно произведения его ума пахнут копотью лампы. Но, будучи твердо убежден в высоком превосходстве, дарованном мне природой, я должен, однако, сознаться, что все здесь, на земле, заключает в себе некоторые несовершенства, которые опять-таки находятся в тесной между собой зависимости. О физической стороне нашего «я», которую врачи никогда не называют естественной, хотя она кажется мне вполне естественной, я совсем не буду говорить, а замечу только о психическом нашем организме, что в нем также замечаются несовершенства, соподчиненные между ними отношения. Разве не верно, например, что наш полет нередко задерживается какой-то свинцовой тяжестью, относительно которой мы не знаем, что собственно она из себя представляет, откуда появляется и кто ее нам навязывает.
Будет, однако, лучше и справедливее, если я скажу, что все зло проистекает от дурного примера; слабость нашей натуры именно в том и заключается, что мы не можем не следовать дурному примеру. Убежден я также, что именно человеческий род собственно предназначен судьбой показывать дурной пример.
К тебе обращаюсь, мой читатель, мой благосклонный молодой кот, и спрашиваю тебя: не приходилось ли тебе когда-нибудь впадать в состояние, непонятное тебе самому, доставившее тебе горькие упреки, а может быть, даже и укусы твоей житейской спутницы? Ты был ленив, сварлив, упрям, обжорлив, ни в чем не находил удовольствия, всегда был там, где не должно, всем доставлял неприятности – словом, был невыносимым сорванцом! Утешься, кот! Такой беспутный период твоей жизни вовсе не проистекал из глубины свойственной тебе индивидуальности, нет, это была дань, которую все мы платим правящему нами началу, платим в том смысле, что следуем дурному примеру людей, которые ввели в употребление этот переходный период. Утешься, мой кот, и со мною было не лучше!
Среди моих ночных занятий мной стало овладевать какое-то недовольство – что-то похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я ложился и засыпал на той самой книге, которую только что читал, на той самой рукописи, которую только что написал. Эта леность овладевала мною все больше и больше; наконец, дошло до того, что я не мог больше ни писать, ни читать, ни совершать прыжки, ни бегать, ни поддерживать отношения с друзьями на крыше или в подвале. Вместо этого я чувствовал непреодолимый порыв делать все, что неприятно мейстеру или друзьям, что могло их обременить. Что касается мейстера, он долгое время ограничивался изгнанием меня, когда я выбирал для лежанья места, где он не терпел моего присутствия. Однажды он принужден был даже несколько постегать меня. Именно постоянно вспрыгивая на письменный стол мейстера, я однажды так долго вертел хвостом в разные стороны, что наконец кончик его попал в большую чернильницу, и я, как кистью, стал разводить им удивительные узоры на полу и на диване. Мейстер, по-видимому, ничего не смыслящий в этой отрасли искусства, пришел в бешенство. Я бежал на двор, но, пожалуй, очутился там в еще более неприятном положении. Некий большой кот, чрезвычайно почтенной наружности, давно изъявлял неудовольствие по поводу моего поведения. Теперь, когда я нелепым образом хотел стянуть у него из-под носа лакомый кусок, который он только что хотел проглотить, старый кот, без дальних слов, надавал мне такую массу пощечин по обеим сторонам лица, что я был совершенно ошеломлен, и из ушей моих потекла кровь. Если я не ошибаюсь, достойный кот был моим дядей, так как в его лице светилось что-то напоминающее Мину, а фамильное сходство бороды было несомненно. Словом, нужно сознаться, что я в это время весь ушел в шалости, так что мейстер Абрагам говорил: «Я, право, не знаю, что с тобой, Мурр! В конце концов, я готов думать, что ты вступил в годы юношеских проказ!» Мейстер был прав, это был роковой период проказ, который я должен был пережить по дурному примеру людей, выдумавших этот период, как нечто необходимое их природе и добившихся того, что он вошел во всеобщее употребление. Люди называют его годами юношеских проказ, хотя многие во всю свою жизнь не кончают этого «юношеского» периода; что касается нашего брата, кота, мы можем только говорить о неделях проказ. Сам я кончил этот период одним сильным толчком или, вернее, прыжком, чуть не стоившим мне ноги или нескольких ребер. Я должен рассказать, как это произошло.
Спускаются боги с Олимпа
При свете лучистого дня…
А назойливая мелодия неустанно жужжала мне в уши:
Любил я одну лишь Йемену,
И Йемена любила меня…
Наконец я заснул. Меня разбудили громкие голоса в то время, как невыносимый запах лез мне в нос, отчего у меня спиралось дыхание. Вся комната была наполнена густым дымом. Дядя, как в облаке, стоял около гардеробного шкафа, топтал остатки горевших занавесей и кричал: «Воды, воды!», пока, наконец, старый лакей не принес столько воды, что она залила весь пол и совершенно погасила огонь. Дым медленно тянулся через окно. «Где же бедокур?» – спросил дядя, осматривая с огнем всю комнату. Я отлично знал, про какого бедокура он спрашивал и, как мышь, притаился в постели. Дядя подошел ко мне и заставил подняться гневным окриком: «Встать сейчас же» «Ты что это, злодей, – продолжал он, – хочешь весь дом поджечь!» На дальнейшие расспросы я совершенно спокойно удостоверил, что, подобно мальчику Руссо, написавшему «Исповедь», я лежал в постели, сочиняя Opera seria[32 - Серьезную оперу (ит.).], и совершенно не знаю, как произошел пожар. «Руссо? Сочинял? Opera seria? Олух!» – лепетал, задыхаясь, дядя и вдруг дал мне пощечину – вторую по счету – такую сильную, что я внезапно замолчал от страха и в то же самое мгновение совершенно явственно услышал, точно созвучие к удару: «Любил я одну лишь Йемену…» Как по отношению к этой песне, так и по отношению к композиторскому вдохновению я получил с той минуты живейшее отвращение.
– Но как же произошел пожар? – спросил тайный советник.
– До сих пор я не могу понять, каким образом вспыхнули занавеси, увлекши за собой к гибели прекрасный дядин шлафрок и три или четыре отличных тупея. Мне всегда представлялось, что я получил пощечину не за пожар, в котором вина была не моя, а за предпринятую мной композицию. Довольно странно, что дядя только настаивал на моих занятиях музыкой, несмотря на то, что учитель, обманутый мгновенным отвращением к ней, проявившимся у меня, счел меня за существо, абсолютно лишенное музыкальных способностей. Что касается другого, дяде было решительно все равно, учусь я или не учусь. Так как он неоднократно высказывал живейшее неудовольствие по поводу того, что меня трудно заставить заниматься музыкой, можно было бы ожидать, что он будет очень обрадован, когда спустя два года музыкальный талант проявился во мне необычайно; на самом деле ничего подобного не случилось. Дядя улыбнулся только слегка, когда заметил, как быстро и виртуозно я овладеваю различными инструментами, и когда, к удовольствию знатоков и мейстера, я сочинил одну небольшую вещицу. Он только слегка улыбнулся и с лукавой миной сказал на все похвалы: «Да, племянничек у меня забавный».
– В таком случае мне непонятно, – проговорил тайный советник, – почему дядя не предоставил полную свободу твоим склонностям, а заставил тебя избрать другую жизненную карьеру. Насколько я знаю, ты совсем недавно сделался капельмейстером.
– Да и недалеко пошел, – с улыбкой воскликнул мейстер Абрагам, представляя на стене изображение какого-то удивительного маленького человечка. – Я должен теперь заступиться за славного дядю, которого некий бесславный племянник называл О weh Onkel[33 - Увы, дядя (нем.).] по первым буквам его имени и фамилии – Оттфрид Венцель. Перед целым миром могу засвидетельствовать, что, если капельмейстеру Иоганну Крейслеру вздумалось сделаться советником при посольстве и навязывать своей натуре совершенно чуждые ей вещи, никто в этом не был менее виноват, чем О wen Onkel.
– Будет об этом, мейстер, – сказал Крейслер, – да уберите заодно дядюшку со стены, потому что, если он и выглядел действительно смешным и жалким, сегодня все же я не могу смеяться над стариком, который давно лежит в могиле.
– Вы нынче решительно берете на себя тон приличной чувствительности, – возразил мейстер, но Крейслер не обратил на него никакого внимания и продолжал, обращаясь к тайному советнику:
– Ты раскаешься в том, что заставил меня разговориться, так как, может быть, ты ждешь каких-нибудь необыкновенных рассказов, а я могу предложить твоему вниманию лишь самые заурядные вещи, повседневно встречающиеся в жизни. Не принуждение воспитателей и не упрямство Рока, а просто обычное течение вещей вынудило меня избрать путь, к которому у меня не было склонности. Замечал ли ты, что в каждой семье есть божок, который вознесен до своего исключительного положения или особенными способностями, или счастливой игрой случая; он является героем, центром, около которого все группируются, милые родственники смотрят на него снизу вверх, своим повелительным голосом он раздает приговоры – и на них нет апелляции. Так было с младшим братом моего дяди, который бежал из музыкального фамильного гнезда, отправился в столицу и в качестве советника при посольстве стал играть довольно важную роль, будучи одним из приближенных князя. Его быстрый успех привел родных в почтительное и не ослабевающее изумление. Имя его стали произносить с серьезной торжественностью, и все мгновенно утихали в немом преклонении, когда кто-нибудь говорил: «Советник при посольстве написал то-то или сказал то-то». Так как с самых ранних лет моего детства я привык смотреть на дядю, живущего в столице, как на личность достигшую высшей цели человеческих стремлений, естественно, я не мог сделать ничего лучшего, как идти по его стопам. Портрет знатного дяди висел в парадной комнате, и самым горячим моим желанием было одеваться и завиваться так, как дядя. Это желание было удовлетворено моим воспитателем: я имел забавный вид десятилетнего мальчика с возносящимся высоко над головой тупеем, нарядно завитым, на мне был надет светло-зеленый камзол с серебряным шитьем, шелковые чулки, а сбоку висела маленькая шпага. По мере того как я делался старше, мое ребяческое честолюбие глубже развивалось в моей душе: я ревностно изучал самые сухие науки, стоило только мне сказать, что эти занятия необходимы мне, если я в будущем желаю сделаться советником при посольстве. Видеть жизненную цель в искусстве, наполнявшем мою душу, я не мог уже потому, что всегда в моем присутствии о музыке, живописи и поэзии говорили, как о вещах, чрезвычайно приятных, назначенных для развлечения и увеселения общества. На пути моем не оказалось никаких препятствий и благодаря помощи дяди и приобретенным знаниям, я стал быстро идти вперед по житейскому поприщу, избранному в известной степени вполне добровольно. Эта быстрота движения не оставляла мне ни одной свободной минуты, когда бы я мог оглянуться вокруг и заметить, что вступил на ложный путь. Цель была достигнута, и не было возврата, когда самым неожиданным образом искусство, которому я изменил, отомстило за себя, мысль о невозвратно утраченной жизни охватила меня, и с безутешной тоской я увидел, что закован в цепи, из которых, казалось, нельзя было вырваться.
– Значит, целебна была катастрофа, освободившая тебя от уз! – воскликнул тайный советник.
– Нет, это не совсем так, – возразил Крейслер. – Освобождение пришло слишком поздно. Со мной было, как с тем заключенным, который после долгого сиденья в тюрьме был, наконец, освобожден, но до такой степени отвык от людской суеты, от яркого света, что не мог уже больше наслаждаться золотой свободой и предпочел вернуться назад в свое заключение.
– Это все ваши выдумки, Иоганн, – вмешался в разговор мейстер Абрагам, – вы мучаете ими и себя, и других. Подите вы! Судьба всегда чрезвычайно благоволила к вам. Но вы никогда не хотели стремиться вперед по прямой дороге, вам нужно было бросаться то влево, то вправо; кто ж виноват в этом, кроме вас самих? Но вы правы в одном: в дни вашего детства над вами горела необыкновенная, особенная звезда, и…
Раздел второй
Жизненные испытания юноши
И я родился в Аркадии
(М. прод.) …Однажды мейстер воскликнул, обращаясь к самому себе: «А ведь было бы забавно и в то же время необыкновенно достопримечательно, если бы маленький седовласый герой, живущий под печкой, обладал всеми качествами, какие приписывает ему профессор! Гм! Думается мне, что он мог бы тогда обогатить меня гораздо больше, чем моя невидимая девица. Я запер бы его в клетку, и он должен был бы показывать свои искусства перед целым светом, который охотно бы заплатил за это хорошую дань. Научнообразованный кот всегда может сделать и сказать гораздо больше, чем скороспелый юноша, напичканный различными экзерцициями. Кроме того, у меня был бы всегда даровой переписчик! Нужно хорошенько исследовать этот вопрос!»
Услыхав слова мейстера, я вспомнил предостережение незабвенной матери моей Мины и, тщательно остерегаясь выказать, что я понял мейстера, твердо решился скрывать свое образование. Я стал читать и писать исключительно ночью, и с благодарностью могу засвидетельствовать при этом, что я увидал особую благость Провидения, даровавшего нашему презираемому роду много преимуществ в сравнении с двуногими существами, которые, бог знает почему, считают себя царями мироздания: когда я занимался по ночам, мне не нужно было ни свечей, ни фабрикации из масла, так как фосфор моих глаз ярко светил в ночной тьме. Несомненно, следовательно, что мои сочинения свободны от упрека, сделанного какому-то античному писателю, что именно произведения его ума пахнут копотью лампы. Но, будучи твердо убежден в высоком превосходстве, дарованном мне природой, я должен, однако, сознаться, что все здесь, на земле, заключает в себе некоторые несовершенства, которые опять-таки находятся в тесной между собой зависимости. О физической стороне нашего «я», которую врачи никогда не называют естественной, хотя она кажется мне вполне естественной, я совсем не буду говорить, а замечу только о психическом нашем организме, что в нем также замечаются несовершенства, соподчиненные между ними отношения. Разве не верно, например, что наш полет нередко задерживается какой-то свинцовой тяжестью, относительно которой мы не знаем, что собственно она из себя представляет, откуда появляется и кто ее нам навязывает.
Будет, однако, лучше и справедливее, если я скажу, что все зло проистекает от дурного примера; слабость нашей натуры именно в том и заключается, что мы не можем не следовать дурному примеру. Убежден я также, что именно человеческий род собственно предназначен судьбой показывать дурной пример.
К тебе обращаюсь, мой читатель, мой благосклонный молодой кот, и спрашиваю тебя: не приходилось ли тебе когда-нибудь впадать в состояние, непонятное тебе самому, доставившее тебе горькие упреки, а может быть, даже и укусы твоей житейской спутницы? Ты был ленив, сварлив, упрям, обжорлив, ни в чем не находил удовольствия, всегда был там, где не должно, всем доставлял неприятности – словом, был невыносимым сорванцом! Утешься, кот! Такой беспутный период твоей жизни вовсе не проистекал из глубины свойственной тебе индивидуальности, нет, это была дань, которую все мы платим правящему нами началу, платим в том смысле, что следуем дурному примеру людей, которые ввели в употребление этот переходный период. Утешься, мой кот, и со мною было не лучше!
Среди моих ночных занятий мной стало овладевать какое-то недовольство – что-то похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я ложился и засыпал на той самой книге, которую только что читал, на той самой рукописи, которую только что написал. Эта леность овладевала мною все больше и больше; наконец, дошло до того, что я не мог больше ни писать, ни читать, ни совершать прыжки, ни бегать, ни поддерживать отношения с друзьями на крыше или в подвале. Вместо этого я чувствовал непреодолимый порыв делать все, что неприятно мейстеру или друзьям, что могло их обременить. Что касается мейстера, он долгое время ограничивался изгнанием меня, когда я выбирал для лежанья места, где он не терпел моего присутствия. Однажды он принужден был даже несколько постегать меня. Именно постоянно вспрыгивая на письменный стол мейстера, я однажды так долго вертел хвостом в разные стороны, что наконец кончик его попал в большую чернильницу, и я, как кистью, стал разводить им удивительные узоры на полу и на диване. Мейстер, по-видимому, ничего не смыслящий в этой отрасли искусства, пришел в бешенство. Я бежал на двор, но, пожалуй, очутился там в еще более неприятном положении. Некий большой кот, чрезвычайно почтенной наружности, давно изъявлял неудовольствие по поводу моего поведения. Теперь, когда я нелепым образом хотел стянуть у него из-под носа лакомый кусок, который он только что хотел проглотить, старый кот, без дальних слов, надавал мне такую массу пощечин по обеим сторонам лица, что я был совершенно ошеломлен, и из ушей моих потекла кровь. Если я не ошибаюсь, достойный кот был моим дядей, так как в его лице светилось что-то напоминающее Мину, а фамильное сходство бороды было несомненно. Словом, нужно сознаться, что я в это время весь ушел в шалости, так что мейстер Абрагам говорил: «Я, право, не знаю, что с тобой, Мурр! В конце концов, я готов думать, что ты вступил в годы юношеских проказ!» Мейстер был прав, это был роковой период проказ, который я должен был пережить по дурному примеру людей, выдумавших этот период, как нечто необходимое их природе и добившихся того, что он вошел во всеобщее употребление. Люди называют его годами юношеских проказ, хотя многие во всю свою жизнь не кончают этого «юношеского» периода; что касается нашего брата, кота, мы можем только говорить о неделях проказ. Сам я кончил этот период одним сильным толчком или, вернее, прыжком, чуть не стоившим мне ноги или нескольких ребер. Я должен рассказать, как это произошло.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: