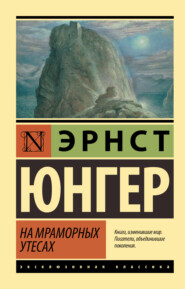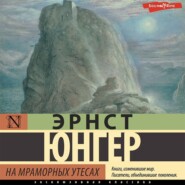По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В стальных грозах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В эту ночь атаки не последовало. Тем не менее полк понес утраты – около двадцати пяти убитыми и много человек ранеными. 15-го и 17-го нам пришлось выдержать еще две газовые атаки. 17-го нас сменили, и в Души мы перенесли еще два тяжелых обстрела. Один случился прямо посреди совета офицеров у майора Яроцки, проходившего в плодовом саду. Несмотря на опасность, забавно было видеть, как почтенное собрание, оберегая носы, порскнуло в разные стороны, продираясь сквозь живые изгороди, и мгновенно исчезло во всевозможных укрытиях. В саду моей квартиры снарядом убило маленькую восьмилетнюю девочку, рывшуюся в помойной яме.
20 июля мы вернулись на позицию. 28-го я с фенрихом Вольгемутом, ефрейторами Бартельсом и Биркнером договорились идти в патруль. Собственно не было никакой иной цели, кроме как побродить у заграждений, поглядеть, нет ли чего нового на ничейной земле, так как жизнь на позиции опять поскучнела. К вечеру сменивший меня офицер шестой роты, лейтенант Браунс, пришел в гости ко мне в блиндаж с несколькими бутылками хорошего вина. Около полуночи окончили мы наши посиделки, я вышел в окоп, где уже в тени поперечины собрались мои спутники. Отыскав себе несколько хороших гранат, в самом радужном настроении перелез я через проволоку, слыша «ни пуха ни пера!», посланное Браунсом вослед.
Вскоре мы подкрались к вражеским укреплениям. Как раз перед этим мы обнаружили в высокой траве довольно толстый, хорошо заизолированный провод. Я счел находку важной и поручил Вольгемуту отрезать кусок и прихватить его с собой. Пока он за отсутствием иного инструмента мучился над этим со своими сигарными ножницами, что-то тренькнуло в проводе прямо перед нами. Возникли несколько англичан, которые начали работать, не замечая наших вжавшихся в траву фигур. Памятуя о печальном опыте последней разведки, я выдохнул едва слышно: «Вольгемут! Гранату туда!» – «Герр лейтенант, пусть они еще поработают» – «Это приказ, фенрих!»
Дух прусской казармы не замедлил сказаться и в этой пустыне. С фатальным ощущением человека, ввязывающегося в безнадежную авантюру, слышал я сухой скрип выдираемого взрывателя и видел, как Вольгемут, чтобы не высовываться, пустил гранату по земле. Она застряла в кустарнике, на полпути к англичанам, ничего, казалось, не замечавших. Несколько мгновений напряженного ожидания. Крррах! Молния осветила пошатнувшиеся фигуры. С отчаянным криком: “You are prisoners!”[18 - «Вы – пленные!» (англ.).] – как тигры ринулись мы в белое облако. Беспорядочное действо разыгралось в доли секунды. Я наставил свой пистолет в чье-то лицо, светившееся мне навстречу из темноты, как бледная маска. Какая-то тень с пронзительным криком метнулась к проволочному заграждению. Это был такой дикий вскрик, вроде: «Уааа-э!», который может издать только человек, увидевший привидение. Слева от меня разрядил свой пистолет Вольгемут. Ефрейтор Бартельс в замешательстве швырнул гранату.
С первым же выстрелом обойма выскочила из ручки моего пистолета. Надсаживаясь в крике, стоял я перед англичанином, с ужасом вжимавшимся в колючую проволоку, и тщетно нажимал спусковой крючок. Выстрела не было, – все было как в беззвучном сне. В окопе перед нами меж тем зашевелились. Раздались окрики. Затрещал пулемет. Мы отпрыгнули назад. Снова стоял я в воронке, направив пистолет на возникшую прямо за мной тень. На сей раз отказ пистолета был к счастью: это был Биркнер, которого я считал давно пробежавшим мимо. Дальше мы неслись к своим окопам.
У наших заграждений пули свистели так, что пришлось прыгнуть в заполненную водой и спутанную проволокой воронку от снаряда. Раскачиваясь на матраце из колючей проволоки над поверхностью воды, я слышал, как пули жужжали, пролетая надо мною, точно мощный пчелиный рой, а ошметки проволоки и осколки мели по дну воронки. Спустя полчаса, когда огонь утих, я перелез через наши препятствия и спрыгнул в траншею, радостно встреченный друзьями. Вольгемут и Бартельс были уже здесь. Спустя полчаса появился и Биркнер. Всех переполняла радость по поводу благополучного исхода, сожалели только, что и на этот раз вожделенный пленник ускользнул от нас. То, что эпизод подействовал возбуждающе, я ощутил сразу, как только, стуча зубами, залез на нары в блиндаже и, несмотря на полное изнеможение, не мог уснуть. Я хорошо знал это ощущение предельной готовности, когда в теле будто действовал маленький электрический звонок. На следующее утро я с трудом ходил, ибо через одно мое колено, носившее уже несколько памятных отметин, тянулся большой порез от проволоки, а в другом засел осколочек от гранаты, брошенной Бартельсом.
Эти краткие вылазки, когда приходилось крепко держать себя в руках, служили хорошим средством закалить характер и нарушить однообразие окопного бытия. Для солдата главное – не скучать.
11 августа вокруг деревни Берль-о-Буа бродила черная верховая лошадь, угробленная с трех выстрелов каким-то ополченцем. Английский офицер, от которого она убежала, вряд ли мог спокойно наблюдать эту сцену. Ночью стрелку Шульцу в глаз попал осколок пули. В деревне тоже прибавилось потерь, так как начисто срезанные артиллерийским огнем стены все меньше защищали от вслепую строчивших пулеметов. Мы начали копать траншеи через деревню и воздвигать в опасных местах новые стены. В одичавших садах созрели ягоды, которые были тем слаще, что лакомиться ими приходилось под жужжание залетавших сюда пуль.
12 августа было долгожданным днем, когда я мог во второй раз за время войны ехать в отпуск. Но едва я отогрелся дома, как мне вслед пришла телеграмма: «Вернуться немедленно, подробности в комендатуре Камбре». Через три часа я уже был в поезде. На пути к вокзалу мимо меня прошли три девушки в светлых платьях, с теннисными ракетками под мышкой, – озаренный сиянием жизни прощальный привет, надолго задержавшийся в моей памяти.
21-го я снова был в знакомой местности, дороги кипели в связи с уходом третьей и прибытием новой дивизии. Первый батальон находился в деревне Экуз-Сен-Мен, ее развалины нам предстояло штурмовать два года спустя.
Паулике, дни которого тоже были сочтены, встретил меня. Он сообщил, что молодые люди из моего взвода уже раз двадцать справлялись, не вернулся ли я. Это известие живо взволновало меня и наполнило уверенностью. Насколько можно было судить, я в жаркие дни, ожидающие нас, не только был причислен начальством к свите, но имел и личные активы.
На ночь меня с восемью другими офицерами разместили на чердаке пустующего дома. Вечером мы еще долго не спали и за неимением ничего более крепкого пили кофе, который готовили нам две француженки из соседнего дома. Мы знали, что на сей раз нам предстоит битва, каких еще не знала мировая история. Мы жаждали победы не менее, чем войска, два года назад перешедшие границу, но были, пожалуй, опаснее их как более искушенные в бою. При этом мы были в отличном, самом веселом расположении духа, и такие слова, как отступление, были нам неведомы.
Увидевший участников этого жизнерадостного застолья должен был бы признать, что позиции, доверенные им, будут заняты, только если всех ее защитников перестреляют.
И именно этому суждено было свершиться.
Гийемонт
23 августа 1916 года нас поместили в грузовики, и мы отправились в Ле-Месниль. Мы уже знали, что должны осесть в легендарном центре битвы на Сомме – деревне Гийемонт, но несмотря на это настроение было отличным. Шутки, при общем смехе, перебрасывались с одной машины на другую.
Во время одной остановки шофер, заводя машину, раздробил себе большой палец. Вид этой раны вызвал у меня, всегда чувствительного к подобным вещам, почти тошноту. Тем удивительнее, что в последующие дни я был в состоянии вынести вид тяжелых увечий без всякого волнения. Это пример того, как целостный смысл определяет отдельные житейские впечатления.
С наступлением темноты мы вышли маршем из Ле-Месниля в направлении Сайи-Сайизеля, где батальон, расположившись на просторном лугу, снял ранцы и приготовил боевое снаряжение.
Впереди грохотали раскаты артиллерийского огня небывалой силы, тысячи сверкающих молний превращали западный горизонт в сплошное море бушующего огня. Непрерывным потоком возвращались раненые с бледными, осунувшимися лицами, часто бесцеремонно оттесняемые в кювет орудиями, с грохотом проносившимися мимо, или колоннами с боеприпасами.
Связной Вюртембергского полка представился мне, чтобы отвести мой взвод в знаменитый городок Комбль, где мы временно должны были оставаться в качестве резерва. Это был первый немецкий солдат, на котором я видел стальную каску, и он тотчас показался мне жителем некоего нового, таинственного и сурового мира. Сидя рядом с ним в кювете, я жадно расспрашивал его о житье-бытье на позиции и услышал монотонный рассказ о длящемся целыми днями сидении в воронках без всякой связи и подходных путей, о беспрерывных атаках, о полях, усеянных трупами, о жажде, доводящей до безумия, о повальной смерти среди раненых и о многом другом. Обрамленное кантом стальной каски, его неподвижное лицо и монотонный, сопровождаемый шумом фронта голос производили на нас жуткое впечатление. За какой-то короткий срок в чертах этого вестника, который должен был сопровождать нас во властилище огня, запечатлелось клеймо, отличавшее его от нас чем-то, чего нельзя было выразить словами.
– Упадешь – останешься лежать. Никто не поможет. Никто не знает, вернется ли живым. Атаки – каждый день, но не прорваться. Всем ясно, что бой идет не на жизнь, а на смерть.
В этом голосе не осталось ничего, кроме великого мужского безразличия. С такими мужами можно идти в бой.
По широкой улице, при лунном свете белой лентой пролегавшей по темной местности, мы шагали навстречу канонаде, оглушительный рев которой становился все непомерней. Оставь надежду позади себя! Особую мрачность этому ландшафту придавало то, что все его дороги, как светящиеся жилы, проступали в лунном свете и что на них было не видать ни единой живой души. Мы шагали по ним, как по мерцающим тропам ночного кладбища.
Вскоре справа и слева от нас разорвались первые снаряды. Речи стали тише и наконец совсем смолкли. Каждый прислушивался к нарастающему вою снарядов с тем особым напряжением, которое наделяет слух крайней остротой. Прохождение Фрегикур-Ферма, небольшой группы домов перед кладбищем Комбля, стало для нас первым испытанием. В этом месте мешок, в который был забран Комбль, уже туго затянулся. Каждый, кто хотел войти в город или оставить его, должен был прорываться здесь, поэтому непрекращающийся огонь непомерной силы, подобный лучам зажигательного стекла, был сосредоточен именно на этой жизненно важной артерии. Командир уже предупредил нас об этом пресловутом перевале; мы прошли по нему быстрым маршем, видя, как все вокруг с треском рушилось.
Над руинами, как и всюду над опасными зонами этой области, стоял густой смрад разлагающихся трупов, ибо огонь был таков, что о погибших уже никто не заботился. Речь шла о жизни и смерти, и когда я, проходя здесь, ощутил этот запах, то нисколько не удивился, – он был неотъемлемой принадлежностью данной местности. Впрочем, это тяжелое и сладковатое дыхание вовсе не казалось омерзительным; более того, оно возбуждало, смешиваясь с едкими парами взрывчатки, – то было состояние восторженной прозорливости, какое может вызывать только величайшая близость смерти.
Я сделал здесь одно наблюдение, и за всю войну, пожалуй, только в этой битве: бывает такая разновидность страха, который завораживает, как неисследованная земля. Так, в эти мгновения я испытывал не боязнь, а возвышающую и почти демоническую легкость; нападали на меня и неожиданные приступы смеха, который ничем было не унять.
Комбль, насколько можно было судить в кромешной тьме, был уже не поселком, а всего лишь его скелетом. Дрова, беспорядочно валявшиеся между развалинами, и вышвырнутая на дорогу домашняя утварь красноречиво говорили о том, что разрушение произошло совсем недавно. Преодолев несметные горы мусора с быстротой, подогретой очередной порцией шрапнели, мы добрались до нашей квартиры – большого, изрешеченного пулями дома, где я поселился с тремя подразделениями; два же других устроились в подвале разрушенного дома, расположенного напротив.
Уже в четыре часа нас подняли с нашего ложа, кое-как составленного из обломков кроватей, и отправили получать стальные каски. Заодно мы нашли в нише погреба целый мешок кофейных зерен, – открытие, имевшее своим последствием усердную варку кофе.
Позавтракав, я немного осмотрелся. За короткий срок стараниями тяжелой артиллерии мирный этапный городок превратился в арену кошмара. Целые дома прямым попаданием были вмяты в землю или разворочены изнутри, так что комнаты вместе с обстановкой парили над хаосом, как театральные декорации. Из некоторых развалин несло трупным смрадом, ибо первый внезапный налет застал жителей врасплох, похоронив многих под руинами, прежде чем они успели выбежать из домов. У одного порога лежала маленькая мертвая девочка, распростертая в луже крови.
Больше всего досталось площади перед разрушенной церковью напротив входа в катакомбы – древнего пещерного коридора со взорванными нишами, в которых теснились почти все штабы боевых группировок. Рассказывали, будто жители в самом начале налетов кирками расчистили замурованный вход, в течение всей оккупации утаиваемый от немцев.
От улиц остались только узкие тропинки; змеясь, прорезали они мощные нагромождения из балок и каменной кладки. В развороченных садах погибло несметное количество фруктов и овощей.
После обеда, который мы сварили из неприкосновенных запасов, бывших у нас в изобилии, и который, как всегда, завершился крепким кофе, я улегся в кресло, чтобы отдохнуть. Из разбросанных вокруг писем я выяснил, что дом принадлежал владельцу пивоварни Лесажу. В комнате стояли раскрытые шкафы и комоды, валялись перевернутый умывальник, швейная машина и детская коляска. На стенах висели разбитые картины и зеркала. На полу, беспорядочной грудой метровой высоты, лежали вывороченные из столов ящики, белье, корсеты, книги, газеты, ночные столики, осколки, бутылки, ноты, ножки от стульев, юбки, пальто, лампы, занавески, подоконники, вырванные из петель двери, кружева, фотографии, картины, писанные маслом, альбомы, расколотые сундуки, дамские шляпы, цветочные горшки и разодранные в клочья обои.
Сквозь разбитые вдребезги окна виднелся изрытый снарядами четырехугольник опустевшей площади, заваленной ветками покореженных лип. Этот хаос впечатлений дополнялся беспрерывным артиллерийским огнем, бушевавшим вокруг этого места. Время от времени шум перекрывался мощным разрывом пятнадцатидюймового снаряда. Осколки тучами летали над Комблем, хлопали о ветки деревьев или падали на те немногие крыши, которые еще уцелели, срывая с них листы шифера.
После полудня огонь достиг такой невероятной силы, что в ушах стоял сплошной чудовищный гул, поглощавший все остальные звуки. Начиная с семи часов площадь и дома вокруг каждые полминуты обстреливались шестидюймовыми снарядами. Среди них было множество неразорвавшихся, короткие, неприятные удары которых сотрясали дом до самого основания. Мы все это время сидели на обитых шелком креслах вокруг стола, оперев голову на руки, и считали минуты между взрывами. Остроты произносились все реже, наконец замолчали и самые лихие из нас. В восемь часов, после двух прямых попаданий, рухнул соседний дом; обвал дунул вверх мощным облаком пыли.
Между девятью и десятью часами огонь забился в дикой, бешеной ярости. Земля тряслась, небо казалось гигантским кипящим котлом.
Сотни тяжелых батарей грохотали вокруг Комбля и в нем самом, беспорядочные снаряды с шипением и воем проносились над нашими головами. Все было окутано густым дымом, сквозь который высвечивались пестрые ракеты – вестники беды. Голова и уши болели так, что мы могли обмениваться только отрывистыми, похожими на рык фразами. Способность к логическому мышлению и чувство собственного достоинства, казалось, оставили нас. Ощущение неотвратимого и неизбежного вставало перед нами, как встреча с прорвавшейся стихией. Один из унтер-офицеров третьего взвода впал в буйное помешательство.
В десять часов этот адский карнавал начал утихать и перешел в ровный ураганный огонь, в котором, правда, все еще тонули единичные выстрелы.
В одиннадцать прибежал связной и принес приказ вывести взводы на церковную площадь. Потом мы соединились с двумя другими взводами для выступления на позицию. Для доставки продовольствия снарядили еще четвертый взвод под командованием лейтенанта Зиверса. Его люди окружили нас, когда мы, торопливо перекликаясь друг с другом, собрались в опасном месте, и снабдили хлебом, табаком и мясными консервами. Зиверс навязал мне целый котелок масла, пожал на прощание руку и пожелал всем самого наилучшего.
Затем мы выступили, построившись в затылок друг другу. У каждого был приказ непременно равняться на впередистоящего. Еще при выходе из поселка наш командир заметил, что заблудился. Невзирая на сильный шрапнельный огонь, мы были вынуждены вернуться. Затем короткими перебежками двинулись вдоль белой полосы, путеводной нитью проложенной через поле и разбитой взрывами на мелкие отрезки. Часто останавливались в самых неподходящих местах, если командир терял верное направление. Вдобавок ко всему, чтобы не терять друг друга из виду, было запрещено ложиться.
Тем не менее первый и третий взвод вдруг исчезли. Вперед! Оба подразделения застряли в ложбине, которая жестоко обстреливалась. Ложись! Омерзительный, навязчивый запах не оставлял сомнений, что проход этого места стоил не одной жертвы. После смертельно опасной пробежки мы попали во вторую ложбину, где был спрятан блиндаж командующего, сбились с пути и в угнетенном состоянии духа повернули назад. Примерно в пяти метрах от лейтенанта Фогеля и от меня в заднюю насыпь попал снаряд среднего калибра и, разорвавшись с глухим грохотом, забросал нас огромными комьями земли, обдав волнами смертельного ужаса. Наконец командир нашел дорогу, определив направление по наиболее заметному скоплению трупов. Один из погибших лежал на меловом откосе, раскинув руки наподобие креста, – какая фантазия могла изобрести дорожный знак, более подходящий для такого ландшафта?
Вперед! Вперед! Люди совсем обессилели от бега, но мы подбадривали их жесткими окриками, выжимая последние силы из изможденных тел. Раненые, напрасно взывая о помощи, валились направо и налево в воронки от снарядов. Дальше, не спуская глаз с идущего впереди, пробирались через траншею глубиной по колено, образованную цепью огромных воронок, в которых покойники лежали один подле другого. Нехотя ступала нога по мягким, податливым телам, чья форма скрывалась от глаз темнотой. Вот и раненого, выбежавшего на дорогу, постигла участь быть раздавленным сапогами безоглядно шагающих вперед.
Да еще этот сладковатый запах! Не выдержал и мой связной, маленький Шмидт, постоянный спутник на опасных тропах, и стал пошатываться. Я вырвал у него из рук ружье, причем добрый малый даже в этот момент попытался из вежливости сопротивляться.
Наконец мы добрались до передовой, плотно занятой притаившимися в ямах людьми; когда они узнали, что пришла смена, их бесцветные голоса задрожали от радости. Баварский фельдфебель, сказав пару слов, передал мне участок и ракетницу.
Участок моего взвода образовывал правое крыло полковой позиции и состоял из плоского ущелья, превращенного снарядами в лощину, которая в нескольких сотнях метров влево от Гийемонта и чуть меньше вправо от Буа-де-Трона врезалась в открытую местность. От правого соседа, 76-го пехотного полка, нас отделяло незанятое пространство, в котором из-за непомерно жестокого огня никто не мог находиться.
Баварский фельдфебель вдруг бесследно исчез, и я остался совершенно один, с ракетницей в руке, посреди жуткой, изрытой воронками местности, которую зловеще и таинственно скрывали стелющиеся по земле пары тумана. За мной послышался приглушенный, неприятный шум; с удивительной трезвостью я определил, что он исходил от огромного, начавшего разлагаться трупа.
Поскольку я даже приблизительно не знал, где находится противник, то отправился к своим ребятам и велел ни на минуту не терять боевой готовности. Никто не спал; я провел ночь с Паулике и обоими связными в «лисьей норе», пространство которой не превышало одного кубического метра.
Когда рассвело, незнакомая местность постепенно предстала перед изумленным взором.
Лощина оказалась всего лишь рядом огромных воронок, наполненных клочьями мундиров, оружием и мертвецами; местность вокруг, насколько хватало обзора, вся была изрыта тяжелыми снарядами. Напрасно глаза пытались отыскать хоть один жалкий стебелек. Разворошенное поле битвы являло собой жуткое зрелище. Среди живых бойцов лежали мертвые. Раскапывая «лисьи норы», мы обнаружили, что они располагались друг над другом слоями. Роты, плечом к плечу выстаивая в ураганном огне, подкашивались одна за другой, трупы засыпались землей, подбрасываемой снарядами, и новая смена тут же заступала на место погибших. Теперь подошла наша очередь.
Лощина и поле за нею были усеяны немцами, переднее поле – англичанами. Из насыпей торчали руки, ноги и головы; перед нашими норами лежали оторванные конечности и тела; для того чтобы скрыть обезображенные лица, на некоторые из них накинули шинели или плащ-палатки. Несмотря на жару, никто и не подумал предать их земле.
Деревня Гийемонт, казалось, исчезла бесследно; только белесое пятно на изрытом поле обозначало место, где меловой камень домов был размолот в пыль. Прямо перед нами, скомканный, как детская игрушка, находился гийемонтский вокзал, а далеко за ним – превращенный в щепу Дельвильский лес.