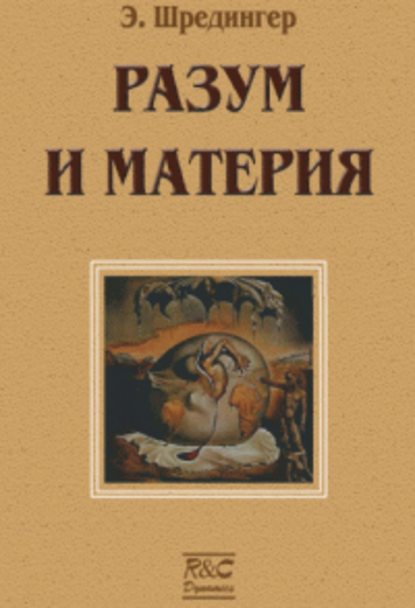По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Материя и разум
Автор
Год написания книги
1959
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Складывая последовательно нечетные числа, когда сначала имеем 1, затем 1 + 3 = 4, затем 1+3 + 5 = 9, затем 1 + 3 + 5 + 7 = 16, вы всегда получите квадрат числа, более того, таким образом вы получите все квадраты числа нечетных чисел, входящих в сумму. Чтобы понять общность этого отношения, можно заменить в сумме слагаемые каждой пары, члены которой равноудалены от середины (т.е. первый и последний, второй и предпоследний и т.д.) их средним арифметическим, которое, очевидно, равно числу слагаемых; итак, для последнего из вышеприведенных примеров имеем: 4 + 4 + 4 + 4 = 4?4.
Обратимся теперь к Канту. Общепринято считать, что он учил идеальности пространства и времени, и что это было фундаментальным, если не самым фундаментальным, аспектом его учения. Как и большую часть учения Канта, его нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но интерес к предмету от этого не пропадает (скорее, повышается: при возможности доказательства его истинности или ложности случай был бы тривиальным). Смысл заключается в том, что протяженность в пространстве и происхождение в строго определенном порядке (в терминах «до» и «после») не является качеством воспринимаемого мира, а относится к воспринимающему разуму, который, во всяком случае, в настоящей ситуации, не может не зарегистрировать все, что ему предлагается, по этим двум индексам: пространству и времени. Это не означает, что разум постигает схемы-очередности, невзирая на какой бы то ни было опыт или до получения оного, это означает, что разум не может не развить их и применить к опыту при представившейся возможности, и, в частности, то, что этот факт не доказывает (или не предполагает), что пространство и время являются схемой-очередностью, неразрывно связанной с той самой «вещью в себе», которая, как считают некоторые, является причиной нашего опыта.
Несложно привести пример, показывающий, что все это вздор. Ни один человек не сможет отличить мир его собственных восприятий от мира вещей, их вызывающих, поскольку вне зависимости от того, насколько глубоко его знание обо всем этом, все это происходит лишь один раз, не два. Дублирование является аллегорией, вызванной в основном коммуникацией с другими человеческими существами и даже с животными; это говорит о том, что их восприятия в той же самой ситуации очень похожи на его собственные за исключением незначительных отличий в точке зрения – в буквальном смысле «точке проекции». Но, даже предположив, что это вынуждает нас считать объективно существующий мир причиной наших восприятий, как поступает большинство, каким же, интересно, образом мы придем к заключению, что общая черта всего нашего опыта обусловлена конституцией разума, а не качеством, присущим всем этим объективно существующим вещам? Как принято считать, наши чувственные восприятия составляют наше единственное знание вещей. Этот объективный мир остается гипотезой, однако гипотезой естественной. Если мы принимаем ее, неужели самым естественным делом не будет приписать этому внешнему миру, а не нам, все те характеристики, которые обнаруживаются в нем нашими чувственными восприятиями?
Однако высочайшая важность утверждения Канта заключается не в справедливом распределении ролей разума и его объекта – мира – в процессе того, как «разум получает представление о мире», поскольку, как я только что указал, их разделение навряд ли возможно. Великим делом является получение представления о том, что эта одна вещь – разум или мир – вполне может иметь другие формы проявления, которые мы не способны уловить и которые не подразумевают понятий пространства и времени. Это означает внушительное освобождение от нашего застарелого предрассудка. Вероятно, существуют другие формы проявления, отличные от пространственно-временных. По-моему, первым, кто вычитал это у Канта, был Шопенгауэр. Это освобождение открывает путь к вере, в религиозном смысле, когда отсутствуют постоянные конфликты с ясными результатами, которые отражают мир таким, каким мы его знаем, и простой мыслью, выраженной предельно четким образом. Например, – наиболее яркий пример – опыт, насколько мы его знаем, ясно навязывает убеждение, что он не может пережить разрушение тела, с жизнью которого, насколько мы знаем жизнь, он неразрывно связан. Так что же, после этой жизни ничего нет? Нет. Опыт, отличный от того, который мы знаем, не обязательно должен иметь место в пространстве и времени. Но в порядке появления, когда время не играет роли, понятие «после» не имеет смысла. Чистые размышления не могут, конечно же, дать нам гарантию того, что нечто подобное существует. Но они могут снять явные ограничения, препятствующие пониманию возможности этого. Вот что явилось результатом анализа Канта, и в этом, по моему, заключается его философская значимость.
Теперь я перехожу к разговору об Эйнштейне в том же контексте. Отношение Канта к науке было невероятно наивным, и вы согласитесь с этим, если перевернете страницы его Метафизических основ науки (Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft). Он принял физическую науку в той форме, какой та достигла в его время (1724–1804), как нечто более или менее окончательное и занялся философским объяснением ее утверждений. Этот случай с великим гением должен послужить предупреждением философам. Он показал, что пространство обязательно должно быть бесконечным и был твердо убежден в том, что человеческому разуму свойственно наделять его геометрическими свойствами, сформулированными Евклидом. В этом евклидовом пространстве двигался моллюск материи, то есть менял свою конфигурацию с течением времени. Для Канта, как для любого физика того времени, время и пространство представлялись двумя совершенно разными концепциями, поэтому он без колебаний назвал первое формой нашей внешней интуиции, второе – формой внутренней интуиции (Anschauung). Осознание того, что евклидово бесконечное пространство – не обязательный способ воззрения на мир нашего опыта, и что пространство и время лучше рассматривать как единый четырехмерный континуум, казалось, разнесло вдребезги основы Канта – однако же на самом деле не причинило вреда более ценной части его философии.
Осознание этого выпало на долю Эйнштейна (и некоторых других: Лоренца, Пуанкаре, Минковского, например). Большое влияние, которое оказали их открытия на философов, людей с улицы и салонных дам, обусловлено тем фактом, который они вывели на первый план: даже в области нашего опыта пространственно-временные отношения гораздо сложнее, чем полагал Кант, следуя в этом отношении всем предшествующим физикам, людям с улицы и салонным дамам.
Наиболее сильное влияние новый взгляд оказал на существовавшее понятие времени. Время – это понятие о «до» и «после». Новое отношение произрастает из следующих двух корней:
(1) Понятие «до и после» основано на отношении «причина и следствие». Нам известно, или, по крайней мере, имеется представление, о том, что событие А может вызывать или, по крайней мере, модифицировать событие В, таким образом, если не произошло А, то не произошло и В (по крайней мере, не модифицировалось известным образом). Например, когда взрывается снаряд, он убивает человека, сидящего на нем; более того, взрыв слышен в удаленных местах. Убийство происходит синхронно со взрывом, до удаленных мест звук доходит позднее; но, определенно, ни одно из событий не может случиться раньше. Это базовое понятие; естественно, согласно именно ему мы каждый день решаем вопрос о том, какое из событий наступило позже или, по крайней мере, не раньше. Это различие всецело основано на той идее, что следствие не может предшествовать причине. Если у нас имеются основания полагать, что В было вызвано А, или что оно по крайней мере проявляет малейшие признаки А, и даже если (на основании каких-то косвенных улик) можно судить о наличии малейших признаков этого, то делается заключение, что В произошло определенно не раньше А.
(2) Имейте это в виду. Второй корень – это экспериментальное свидетельство того, что следствия не распространяются с произвольно высокой скоростью. Существует верхний предел, который по воле случая равен скорости света в пустом пространстве. По человеческим меркам это очень высокая скорость – облететь земной шар по экватору на этой скорости можно семь раз в секунду. Очень высокая скорость, но, тем не менее, конечная; обозначим ее с. Договоримся считать это фундаментальным фактом природы. Отсюда следует, что вышеуказанная дискриминация на «до и после» или «раньше и позже» (основанная на причинно-следственном отношении) не обладает универсальной применимостью, в некоторых случаях она не работает. Это нелегко объяснить, пользуясь нематематическим языком. Не то чтобы математическая схема была настолько сложной. Дело в том, что повседневный язык вреден в том смысле, что он насквозь пропитан понятием времени – невозможно использовать глагол (verbum, нем. Zeitwort), не придав ему ту или иную временную форму.
Изложим простейшее, но, как выяснится позже, не вполне адекватное рассмотрение вопроса. Дано событие А. Рассмотрим в более поздний момент времени событие B, лежащее за пределами сферы радиуса ct с центром в точке А. Отсюда В не может проявлять каких-либо «признаков» А; А, соответственно, не может проявлять каких-либо «признаков» В. Итак, наш критерий рухнул. Средствами языка мы определили В как более позднее событие. Но вправе ли мы так поступать, если критерий не соблюдается ни в одном из направлений?
Рассмотрим в более ранний момент времени (на величину t) событие В’, лежащее также за пределами той самой сферы. В этом случае, как и в предыдущем, признак В’ не мог достичь А, равно как и признак А не мог достичь В’.
Таким образом, в обоих случаях имеет место одно и то же отношение взаимного невмешательства. Между классами В и В’ нет концептуальной разницы в плане причинно-следственной связи с А. Поэтому если мы желаем сделать это отношение, а не лингвистическое предубеждение, базой для «до и после», то надо сказать, что В и В’ образуют один класс событий, происшедших ни раньше, ни позже А. Область пространства-времени, занимаемая этим классом, носит название области «потенциальной одновременности» (по отношению к событию А).Используется такое выражение потому, что всегда можно выбрать систему пространства-времени таким образом, что А будет одновременным с выбранным конкретным В или конкретным В’. Это открытие было сделано Эйнштейном в 1905 г. и получило название «Специальная теория относительности».
Теперь все эти вещи стали вполне конкретной реальностью для нас, физиков, мы их используем ежедневно точно так же, как пользуемся таблицей умножения или теоремой Пифагора о прямоугольных треугольниках. Иногда я задумываюсь, почему это произвело такой резонанс и в среде обычной публики, и в среде философов. Мне кажется, что причиной послужило свержение с престола времени – жестокого тирана, навязанного нам извне, освобождение от нерушимого закона «до и после». Ибо, воистину, время – наш самый жестокий хозяин, непреклонно отмеряющий каждому из нас по 70–80 лет, как записано в пятикнижии. Возможность поиграть с программой такого хозяина, казавшейся доселе нерушимой, поиграть, пусть даже в очень жестких рамках, представляется большим облегчением; кажется, что эта возможность поощряет самую мысль о том, что все «расписание», возможно, не настолько серьезно, как кажется на первый взгляд. И это религиозная мысль, нет, надо сказать, это самая что ни на есть религиозная мысль[30 - And this thought is a religious thought, nay I should call it the religious thought. – Прим. перев.].
Эйнштейн – как вы иногда слышите – не опроверг глубокие мысли Канта относительно идеализации пространства и времени; наоборот, он сделал большой шаг по пути к ее завершению.
Я говорил о влиянии Платона, Канта и Эйнштейна на философское и религиозное мировоззрение. Так вот, между Кантом и Эйнштейном, примерно за поколение до последнего, физическая наука стала свидетелем важного события, которое, как могло показаться, было рассчитано на возбуждение интереса философов, людей с улицы и салонных дам в такой же степени, как теория относительности, если не в большей. Причина того, что этого не случилось, кроется, по-моему, в том, что этот поворот мысли еще более сложен для понимания, и поэтому людей в этих трех категориях, уловивших суть, можно было пересчитать по пальцам – в лучшем случае это были философы. Событие это связано с именами американца Уилларда Гиббса и австрийца Людвига Больцмана. Об этом следует написать.
За очень редким исключением (что является настоящим исключением) ход событий в природе необратим. Если мы попытаемся представить временную последовательность явлений, в точности противоположную наблюдаемой в природе – как прокручиваемую в обратном направлении кинопленку – такая вот обращенная последовательность, будучи легко представимой, практически всегда окажется грубо противоречащей хорошо известным законам физической науки.
Общая «направленность» всего происходящего получила объяснение с помощью механической или статистической теории тепла, что должным образом приветствовалось как наиболее заметное достижение этой теории. Я не могу вдаваться здесь в подробности этой физической теории, но в этом нет надобности для понимания сути. Теория была бы слишком примитивной, если бы утверждала, что необратимость является неотъемлемым свойством микромеханизма атомов и молекул. Она бы недалеко ушла от множества средневековых объяснений типа: огонь горяч в силу своего огненного характера. Нет. Согласно Больцману, мы имеем дело с естественным стремлением любого упорядоченного состояния самопроизвольно перейти в менее упорядоченное, но не наоборот. Рассмотрим в качестве примера колоду игральных карт, которую вы аккуратно отсортировали следующим образом: 7, 8, 9, 10, валет, дама, король, туз червей, то же самое в бубновой масти и т.д. Если эту хорошо упорядоченную колоду перетасовать один, два, три раза, она постепенно перейдет в случайное состояние. Но это не является врожденным свойством процесса тасования. Когда дан получившийся неупорядоченный набор, вполне можно представить, что процесс тасования нейтрализует следствие первого тасования и восстановит порядок. И все же все будут ожидать развития событий согласно первому сценарию, согласно второму – никто, ибо ждать придется довольно долго.
Вот в чем суть объяснения однонаправленного характера всех природных явлений (включая, конечно же, процесс жизни организма от рождения до смерти), предложенного Больцманом. Его главное достоинство заключается в том, что «стрела времени» (как ее назвал Эддингтон) не вводится в механизмы взаимодействия, представленные в нашем примере механическим актом тасования. Этот акт, этот механизм пока что не имеет понятия о прошлом и будущем, сам по себе он полностью обратим, «стрела» же – то самое понятие о прошлом и будущем – появляется из статистических соображений. В нашем примере с картами фокус в том, что существует лишь одно (или очень мало) упорядоченное расположение карт, в то время как неупорядоченным счет идет на миллиарды миллиардов.
Тем не менее, теория снова и снова подвергается нападкам, иногда со стороны очень умных людей. Нападки сводятся к следующему: теория нездорова с точки зрения логики. Поскольку, как утверждается, если основные механизмы не различают два направления хода времени и работают абсолютно симметрично в этом отношении, каким образом результатом их совместной работы является поведение всего в целом, сильно смещенное в одном направлении? Все, что выполняется в одном направлении, должно так же хорошо выполняться и в другом.
Если этот аргумент правомочен, то он, по-видимому, представляет собой смертный приговор теории, так как нацелен на ту самую точку, которая считается основным ее достоинством: вывод необратимых событий из обратимых основных механизмов.
Аргумент совершенно правомочен, но, тем не менее, фатальным не является. Аргумент логичен в том, что касается утверждения об эквивалентности протекания процессов в противоположных направлениях времени, которое с самого начала считается совершенно симметричной переменной. Но нельзя сразу же делать вывод о том, что это справедливо в обоих направлениях. Осторожно подбирая слова, следует сказать, что в произвольном частном случае процесс протекает либо в одном, либо в другом направлении. К этому следует добавить: в частном случае мира, как мы его знаем, его «истощение» (термин, употребляемый время от времени) происходит в одном направлении, которое мы называем направлением из прошлого в будущее. Другими словами, статистической теории тепла необходимо дать возможность самостоятельно определить, в каком направлении течет время. (Это имеет исключительно важные последствия для методологии физика. Он никогда не должен вводить то, что независимо определяет направление стрелы времени, так как в противном случае красивое строение Больцмана рушится.)
Могут возникнуть опасения, что в различных физических системах статистическое определение времени не всегда может означать одно и то же его направление. Возможность этого Больцман встретил смело: он утверждал, что если вселенная достаточно велика и/или существует достаточно долго, в отдаленных частях мира время может идти в обратном направлении. Это утверждение оспаривалось, однако продолжение споров вряд ли имеет смысл. Больцман не знал, что нам представляется по крайней мере чрезвычайно вероятным то, что вселенная, как мы ее знаем, ни достаточно велика, ни достаточно стара для того, чтобы вызывать подобные обращения в большом масштабе. Я прошу вас разрешить мне заметить, не вдаваясь в подробности, что в очень мелком масштабе и пространства, и времени подобные обращения наблюдались (броуновское движение, Смолуховский).
По моему мнению, «статистическая теория времени» имеет большее значение для философии, чем теория относительности. Последняя, будучи революционной, не затрагивает однонаправленного хода времени, а предполагает его изначально, тогда как статистическая теория конструирует его из порядка событий. Это означает освобождение от тирании старика Хроноса. То, что мы сами воссоздаем в наших умах, не может иметь, как мне кажется, диктаторской власти над нашим разумом, ни власти над выдвижением его на первый план, ни власти над его уничтожением. Впрочем, некоторые из вас, я уверен, назовут это мистицизмом. Поэтому, отдав должное тому факту, что физическая теория во все времена остается относительной (в том смысле, что она зависит от некоторых основополагающих предположений), мы можем, как мне кажется, утверждать, что физическая теория в ее современном состоянии определенно предполагает нерушимость Разума Временем.
Глава VI
Загадка чувственных качеств
В последней главе я бы хотел несколько более подробно продемонстрировать весьма странное состояние дел, уже отмеченное в знаменитом фрагменте Демокрита из Абдер, – тот странный факт, что, с одной стороны, все наши знания об окружающем нас мире, и полученные в повседневной жизни, и обнаруженные благодаря тщательно спланированным трудоемким экспериментам, всецело основаны на непосредственном чувственном восприятии; в то же время, с другой стороны, эти знания не раскрывают отношения чувственных восприятий и внешнего мира, поэтому в картине или модели внешнего мира, построенной на базе научных открытий, все чувственные качества отсутствуют. И если первая часть этого утверждения, думается, легко допускается каждым, вторая половина осознается не так часто по той простой причине, что не ученые, как правило, очень почтительно относится к науке и приписывают нам, ученым, возможность выяснять с помощью «сказочно совершенных методов» то, что обычным смертным не под силу.
Если вы спросите у физика, что, в его понимании, есть желтый свет, он вам ответит, что это поперечные электромагнитные волны, длина которых примерно равна 590 нанометрам (нм). Если вы спросите его: «а где тут желтый?», то он ответит: «в моей картине его нет совсем, но когда эти колебания попадают на сетчатку здорового глаза, у человека, которому принадлежит этот глаз, возникает ощущение желтого цвета.» При дальнейшем объяснении вы можете выяснить, что различные длины волн вызывают различные цветовые ощущения, причем справедливо это только для волн, длина которых лежит в диапазоне от 800 до 400 нм (приблизительно). С точки зрения физика, инфракрасные (длина волны более 800 нм) и ультрафиолетовые (длина волны менее 400 нм) волны являются тем же самым явлением, что и волны, длина которых укладывается в диапазон от 400 до 800 нм и которые воспринимаются глазом. Чем обусловлена такая избирательность? Очевидно, это адаптация к излучению солнца, интенсивность которого в этом диапазоне максимальна и убывает на каждом из его концов. Более того, присущее нам наиболее яркое цветоощущение – ощущение желтого цвета – наблюдается в том месте вышеуказанной области, где излучение солнца проявляет максимум, настоящий пик.
Далее мы можем спросить: «ощущение желтого цвета вызывается только излучением, длина которого лежит в окрестности 590 нм, или нет?» Ответ таков: вовсе нет. Если волны, длина которых 760 нм, которые сами по себе вызывают ощущение красного цвета, смешать в определенном соотношении с волнами, длина которых 535 нм, которые сами по себе вызывают ощущение зеленого, то получившаяся смесь вызовет ощущение желтого цвета, неотличимое от того, которое вызывается излучением с длиной волны 590 нм. Два рядом расположенных экрана, один из которых освещен смесью, а другой – чистым спектральным светом, выглядят совершенно одинаково, вы не сможете отличить один от другого. Можно ли было предсказать этот феномен, основываясь на длинах волн – существует ли числовая связь с этими физическими, объективными характеристиками волн? Нет. Конечно, карта всевозможных смесей подобного рода была получена эмпирическим путем; она носит название цветового треугольника. Но связь с длинами волн непростая. Не существует общего правила, согласно которому смесь двух спектральных цветов совпадает со спектральным цветом, расположенным между ними; например, смесь «красного» и «синего» цветов, расположенных на концах спектра, дает «пурпурный», который не воспроизводится источником спектрального света. Более того, указанная карта, цветовой треугольник, у разных людей немного отличается, у тех, кого называют аномальными трихроматами (которые не являются дальтониками) он отличается существенно.
Ощущение цвета невозможно объяснить в рамках объективной картины волн света, имеющейся у физиков. А мог бы физиолог объяснить это, обладай он более полными знаниями о процессах, происходящих в сетчатке, и вызываемых ими нервных процессах в зрительных нервных узлах и мозге? Я так не думаю. В лучшем случае мы бы получили объективные знания о том, какие нервные волокна возбуждаются и в каком соотношении; вероятно, точно узнали бы процессы, которые они вызывают в определенных клетках мозга – в те моменты, когда наш разум регистрирует ощущение желтого цвета в определенном направлении или области нашего поля зрения. Но даже такое подробное знание ничего не расскажет нам об ощущении цвета, в частности желтого, в этом направлении – а ведь в ощущении сладкого вкуса или чего-либо еще, возможно, участвуют те же самые физиологические процессы. Все, что я хочу сказать – мы можем быть уверены, что не существует такого нервного процесса, объективное описание которого содержит характеристику «желтый цвет» или «сладкий вкус», точно так же, как объективное описание электромагнитных волн не содержит никакой из этих характеристик.
То же самое справедливо и в отношении других ощущений. Очень интересно сравнить восприятие цвета, которое мы только что рассмотрели, с восприятием звука. Звук передается нам посредством упругих волн сжатия и растяжения, распространяющихся в воздухе. Их длина – точнее, частота – определяет высоту слышимого звука. (N.B. К физиологии имеет отношение частота, а не длина волны, как и в случае света, хотя в случае света эти величины практически точно обратно пропорциональны, поскольку скорости распространения света в пустом пространстве и в воздухе отличаются неощутимо.) Нет нужды объяснять, что частотный диапазон «слышимого звука» сильно отличается от частотного диапазона «видимого света» – звуковой диапазон простирается от 12–16 до 20000–30000 колебаний в секунду, тогда как для света эти цифры имеют порядок сотен триллионов. Относительный диапазон, однако, шире в случае звука, он охватывает около десяти октав (против одной с натяжкой для «видимого света»); более того, эта величина индивидуальна и изменяется с возрастом: неуклонное снижение верхней границы диапазона достигает значительной величины. Но наиболее удивительным фактом, связанным со звуком, является то, что смесь нескольких различных частот не воспринимается как чистый тон промежуточной высоты. Наложенные тоны воспринимаются раздельно, хотя и одновременно, особенно людьми с музыкальным слухом. Подмешивание более высоких нот («обертонов»), обладающих разными качествами и амплитудами, придает звучанию то, что мы называем тембром (нем. Klangfarbe), благодаря которому мы отличаем звучание скрипки, горна, церковного колокола, пианино... по единственной сыгранной ноте. И даже шумы обладают тембром, благодаря чему мы делаем заключения о происходящем; даже моей собаке знаком особенный шум, возникающий при открытии банки, из которой ей иногда достается печенье. Во всех этих случаях первостепенное значение имеет соотношение частот. Если они изменяются с одним и тем же коэффициентом, как при ускоренном или замедленном проигрывании граммофонной пластинки, вы без труда разберетесь в ситуации. Хотя имеются различия, обусловленные именно абсолютными значениями частот определенных составляющих. При ускоренном проигрывании грамзаписи, содержащей голос человека, гласные заметно изменяются, в частности, «a» в слове «car» становится похожей на «а» в слове «care». Звук с непрерывным частотным диапазоном всегда вызывает неприятные ощущения, независимо от того, последовательно, как в случае сирены или орущего кота, или одновременно (что сложно реализовать, разве что с помощью сонма сирен или полка котов) он воспринимается. И снова разительное отличие от восприятия света. Все обычно воспринимаемые нами цвета представляют собой непрерывные смеси; при этом плавные цветовые переходы, встречающиеся на полотнах художников и в природе, часто придают изображению особенную прелесть.
Основные характеристики звукового восприятия понятны, поскольку о строении уха у нас имеются более детальные и достоверные знания, чем о химии сетчатки. Главным органом является улитка, спиралеобразная костная трубочка, внешне напоминающая раковину морской улитки: крохотная винтовая лестница, ширина которой уменьшается с высотой. Вместо ступенек (продолжая наше образное сравнение) у нее имеются натянутые эластичные волокна, образующие мембрану, ширина которой (длина отдельного волокна) постепенно уменьшается от основания к вершине. Таким образом, как струны арфы или пианино, волокна различной длины реагируют механически на колебания различной частоты. На определенную частоту реагирует небольшая область мембраны – не просто одно волокно, – на более высокую частоту – другая область, в которой волокна короче. Механические колебания определенной частоты должны возбуждать в каждой из групп нервных волокон хорошо известные нервные импульсы, которые распространяются в определенные области коры головного мозга. Нам в целом известно, что процессы проводимости в различных нервах очень похожи и изменяются лишь в зависимости от амплитуды возбуждения; последняя влияет на частоту импульсов, которую, конечно, не следует путать с частотой звука в нашем случае (эти две частоты совершенно не связаны друг с другом).
Картина не так проста, как хотелось бы. Если бы перед физиком стояла задача сконструировать ухо, обеспечивающее своему владельцу возможность невероятно точного определения высоты звука и тембра, как оно и есть на самом деле, его конструкция была бы отличной. Впрочем, возможно, в итоге он бы пришел к существующей. Было бы проще и красивее, если бы мы могли сказать, что каждая конкретная «струна» в улитке реагирует на одну, строго определенную, частоту поступающего колебания. Это не так. Но почему? Потому что колебания этих «струн» сильно задемпфированы. Это, при необходимости, расширяет их область резонанса. Наш физик, вероятно, создал бы конструкцию с минимально возможным затуханием. И это имело бы ужасные последствия: восприятие звука не прекращалось бы немедленно после затухания соответствующей волны; оно длилось бы еще некоторое время, пока слабо задемпфированный резонатор в улитке не остановился. Улучшение способности определения высоты звука достигается за счет ухудшения способности определения очередности близких во времени звуков. Удивительно, как реальный механизм умудряется примирять обе вещи таким совершенным образом.
Я решил, вдаваясь в подробности, дать вам возможность почувствовать, что ни описание физика, ни описание физиолога не содержат ни малейшего намека на ощущение звука. Любое описание подобного рода будет вынуждено заканчиваться фразой типа «эти нервные импульсы передаются в определенный участок мозга, где они регистрируются как последовательность звуков». Мы можем проследить за изменением давления воздуха, которое вызывает колебания барабанной перепонки, мы видим, каким образом это движение передается цепочкой крохотных косточек к другой мембране и, в конце концов, к частям мембраны, расположенным в улитке, состоящей из волокон различной длины, как было описано выше. Мы, возможно, поймем, каким образом колеблющееся волокно запускает электрохимический процесс проводимости в подсоединенном нервном волокне. Мы можем проследить распространение вплоть до коры головного мозга, и, может быть, даже получим объективные знания о происходящих в ней процессах. Но мы нигде не встретим «регистрацию звука», которая попросту не содержится в нашей научной картине, а существует лишь в разуме человека, об ухе и мозге которого мы ведем речь.
Таким же образом можно было бы обсудить ощущения прикосновения, тепла и холода, запаха и вкуса. Два последних ощущения – химические ощущения, как их иногда называют (обоняние дает нам возможность изучения газов, вкус – изучения жидкостей) – имеют одну общую черту со зрительным ощущением: на бесконечное множество всевозможных стимулов они реагируют ограниченным многообразием качеств; в случае вкуса это такие качества, как горький, сладкий, кислый, соленый и их смеси. Обоняние, как мне кажется, более разнообразно, нежели вкус; в частности, у отдельных животных оно развито сильнее, чем у человека. Те объективные особенности физического или химического стимула, которые заметно модифицируют ощущение, по-видимому, варьируются очень сильно в царстве животных. Пчелы, например, обладают цветовым зрением, причем одна из границ воспринимаемого ими диапазона находится далеко в ультрафиолетовой области; они являются истинными трихроматами, а не дихроматами, как было установлено в ходе более ранних экспериментов, в которых ультрафиолетовая область не принималась во внимание. Особенно интересно то, что пчелы, как недавно выяснил в Мюнхене фон Фриш, обладают чувствительностью к поляризации света; это позволяет им чрезвычайно уверенно ориентироваться по солнцу. Для человека даже полностью поляризованный свет неотличим от обычного, неполяризованного. Летучие мыши, как выяснилось, обладают чувствительностью к высокочастотным колебаниям («ультразвуку»), частота которых намного превосходит верхнюю границу слышимого человеком диапазона; летучие мыши сами генерируют эти высокочастотные колебания, действуя наподобие радара, что помогает им избегать препятствий. Присущее человеку ощущение холода и тепла проявляет интересное свойство «les extr?mes se touchent»: при нечаянном прикосновении к очень холодному объекту может показаться, что мы обожглись.
Двадцать–тридцать лет назад химики в США открыли интересный состав, название которого я забыл – белый порошок, кажущийся одним безвкусным, а другим ужасно горьким. Этот факт вызвал большой интерес и с тех пор усиленно изучается. Качество быть «дегустатором» (данного вещества) является врожденной характеристикой индивида и не зависит ни от чего другого. Более того, оно наследуется согласно законам Менделя путем, хорошо известным нам из наследования характеристик групп крови. Как и в случае с последними, видимые преимущества или недостатки, обусловленные способностью к дегустации этого вещества, не наблюдаются. В гетерозиготах доминирует одна из двух «аллелей», как мне кажется, это аллель дегустатора. Мне представляется очень маловероятным, что это случайно открытое вещество является уникальным. Вполне может оказаться, что «о вкусах не спорят» в общем случае, причем в более чем прямом смысле!
Вернемся теперь к случаю со светом и заглянем чуть глубже в процесс его образования и то, как физик устанавливает его объективные характеристики. Насколько я понимаю, в настоящее время то, что свет излучается электронами, в частности, теми из них, которые «чем-то занимаются» вокруг ядра, является общеизвестным фактом. Электрон не окрашен в красный, зеленый, синий или какой-либо другой цвет; то же самое справедливо и в отношении протона – ядра атома водорода. Но их союз в атоме водорода, по словам физика, генерирует электромагнитное излучение с дискретным набором длин волн. Однородные составляющие этого излучения, разделенные призмой или оптической решеткой, вызывают у наблюдателя ощущения красного, зеленого, синего, фиолетового цветов посредством некоторых физиологических процессов, общий характер которых достаточно хорошо известен, чтобы утверждать, что они не являются красными, зелеными или синими; в реальности рассматриваемые нервные элементы не проявляют в результате возбуждения цвет; проявление нервных клеток, серых или белых, (не имеет значения, возбужденных или нет) определенно несущественно в отношении цветоощущения индивидуума, которое сопровождает возбуждение нервных клеток последнего.
И все же наши познания об излучении атома водорода и об объективных, физических свойствах этого излучения произошли из чьих-то наблюдений этих окрашенных спектральных линий, занимающих определенное положение в спектре излучения паров водорода. Это дало первое, но ни в коем случае не полное, знание. Чтобы добиться этого, необходимо сразу же избавиться от чувств[31 - Sensates. – Прим. перев.] и не допускать их вмешательства в процессе рассмотрения этого характерного примера. Сам по себе цвет ничего не говорит о длине волны; действительно, как уже было отмечено, например, желтая спектральная линия может не быть «монохроматической» с точки зрения физика, а состоять из множества длин волн, если бы мы не знали, что наш спектроскоп исключает самую возможность этого. Он собирает свет определенной длины волны в определенной точке спектра. Свет, который появляется там, всегда имеет один и тот же цвет независимо от того, из какого источника он происходит. Но даже если так, качество цветоощущения не дает каких-либо намеков на физическое качество – длину волны, не говоря уже о сравнительной слабости нашей способности различения оттенков, что, пожалуй, не удовлетворит физика. A priori можно было бы предположить, что ощущение синего вызывается длинными волнами, а ощущение красного – короткими, в отличие от того, как дело обстоит на самом деле.
Для завершения накопления знаний о физических свойствах света, излучаемого произвольным источником, потребуется специальный спектроскоп; разложение будет осуществляться при помощи дифракционной решетки. Призма не подойдет, потому что заранее неизвестны углы преломления волн различных длин, так как они зависят от материала, из которого изготовлена призма. Фактически, a priori в случае с призмой невозможно даже установить тот факт, что сильнее отклоняется более коротковолновое излучение, как это происходит в действительности.
Теория дифракционных решеток намного проще теории призм. Из основного физического предположения о свете, гласящего всего лишь, что свет имеет волновую природу, можно, измерив число эквидистантных бороздок решетки, приходящихся на один дюйм (которое обычно составляет много тысяч) точно определить угол отклонения заданной длины волны и, следовательно, обратно, можно определить длину волны исходя из «постоянной решетки» и угла отклонения. В некоторых случаях (особенно в эффектах Зеемана и Штарка) отдельные спектральные линии поляризованы. Для завершения физического описания в этом отношении, когда человеческий глаз совершенно нечувствителен, до разложения луча на его пути устанавливается поляризатор (призма Николя); при медленном вращении николя вокруг своей оси некоторые линии пропадают или ослабляются до минимальной яркости, при этом ориентация николя показывает направление (ортогональное лучу) их полной или частичной поляризации.
Когда этот опыт освоен, его можно расширить далеко за пределы видимого диапазона. Спектральные линии светящихся паров ни в коем случае не ограничены видимой областью, которая с физической точки зрения ничем не отличается. Эти линии образуют длинные, теоретически бесконечные ряды. Длины волн каждого ряда связаны сравнительно простым математическим законом, свойственным этому ряду, который выполняется для всего ряда без каких-либо отличий для той его части, которая по воле случая попала в видимую область. Эти законы сначала были обнаружены эмпирическим путем, сейчас у них уже имеется теоретическая база. Естественно, за пределами видимого диапазона глаз должна заменить фотопластинка. Длины волн определяются из чистого измерения длин: сначала, раз и навсегда, измеряется постоянная решетки, то есть расстояние между соседними бороздками (величина, обратная числу бороздок на единицу длины), затем измеряются положения линий на фотопластинке, откуда, зная размеры аппарата, можно вычислить углы отклонения.
Все эти вещи хорошо известны, но я бы хотел подчеркнуть два важных момента, имеющих отношение к практически любому физическому измерению.
То состояние дел, которое с некоторой степенью детализации было рассмотрено здесь, часто описывается таким образом: по мере совершенствования методов измерений наблюдатель постепенно заменяется все более и более совершенной техникой. Что касается рассматриваемого случая, это не так; наблюдатель не постепенно заменяется, а находится в таком положении с самого начала. Я пытался объяснить, что красочные впечатления наблюдателя об этом феномене не удостаивают его ни малейшего намека на физическую природу последнего. Необходимо иметь устройства для разлиновки решетки и измерения длин и углов – иметь их еще до того, как будет получено грубое качественное представление о том, что мы называем объективной физической природой света и его физических компонентов. И это уместный шаг. То, что устройство впоследствии постепенно модернизируется, оставаясь в сущности тем же самым, с гносеологической точки зрения неважно, какими бы серьезными эти улучшения ни были.
Второй момент заключается в том, что наблюдатель никогда полностью не заменяется приборами; потому что если бы это было так, он бы, очевидно, не получил никаких знаний. Он должен был сконструировать прибор и, в процессе конструирования или позже, тщательно снять его размеры и проверить движущиеся части (скажем, опорный рычаг, вращающийся вокруг конического пальца и скользящий вдоль круговой шкалы углов), чтобы удостовериться, что движение именно то, какое должно быть. Действительно, при проведении некоторых измерений и проверок подобного типа физик будет зависеть от завода, изготовившего и доставившего прибор; тем не менее, вся эта информация возвращается в итоге к чувственному восприятию некоторых живых персон, хотя для облегчения труда можно воспользоваться множеством оригинальных устройств. В конце концов наблюдатель должен, используя прибор для своих исследований, снять показания, будь это непосредственно считываемые значения углов или расстояний, измеряемых под микроскопом, или расстояния между спектральными линиями на фотопластинке. Для облегчения этой работы можно использовать множество вспомогательных устройств, например, фотометрическую запись прозрачности фотопластинки, которая позволяет получить увеличенную диаграмму, с которой легко считываются положения линий. Но их необходимо считать! Ощущения наблюдателя должны, наконец, выйти на сцену. Чрезвычайно тщательно сделанная, однако не исследованная, запись не говорит ни о чем.
Итак, мы возвращаемся к этому странному положению дел. В то время как прямое чувственное восприятие феномена ничего не говорит о его физической природе (или о том, что мы обычно так называем), и, как источник информации, должно быть отметено с самого начала, теоретическая картина, которую мы получаем, в конечном счете всецело базируется на сложном массиве информации, полученной путем непосредственного чувственного восприятия. Она базируется на нем, она составлена из него, но при этом нельзя сказать, что она его содержит. При использовании картины об этом обычно забывают, кроме того, когда, вообще говоря, нам известно, что идея волны света не является случайным изобретением (вроде изобретения кривошипа), а основана на опыте.
Я был удивлен, когда открыл для себя, что все это ясно понимал великий Демокрит в пятом веке до н.э., который ничего не знал о каких-либо устройствах для физических измерений, хотя бы отдаленно напоминающих те, о которых я рассказывал (и которые в наше время являются простейшими).
Гален сохранил для нас фрагмент (Дильс, фр. 125)[32 - По-видимому, автор ссылается на книгу: Hermann Diels, DieFragmente der Vorsokratiker. Weidmann’sche Buchhandlung, Berlin, 1903. – Прим. пер.], в котором Демокрит представляет интеллект ( ’ ), рассуждающий с чувствами ( ’ ) о том, что «реально». Интеллект говорит: «С виду существуют цвет, сладость, горечь, фактически же – только атомы и пустота», на что чувства отвечают: «Бедный интеллект, ты надеешься покорить нас, в то время как именно от нас ты получаешь сведения? Твоя победа – это твое поражение.»
В этой главе я попытался на простых примерах, взятых из скромнейшей из наук, физики, противопоставить два общих факта: (а) что все научное знание основано на чувственном восприятии, и (б) что, тем не менее, у полученных таким образом научных представлений о естественных процессах отсутствуют все чувственные качества и потому научные представления не могут отражать их. Разрешите подвести черту заключением общего характера.
Научные теории служат для ускорения обзора наблюдений и экспериментальных результатов. Каждый ученый знает, как тяжело удерживать в памяти сравнительно большую группу фактов, когда еще не вырисовывается даже примитивной теоретической картины. Поэтому неудивительно, и уж точно не следует вменять в вину авторам оригинальных работ и учебников то, что по завершении формирования разумно когерентной теории описываются уже не голые факты, которые они обнаружили или стремятся передать читателю, а облаченные в терминологию той самой теории теорий. Эта процедура, будучи весьма полезной для запоминания фактов в определенном порядке, стремится стереть различия между фактическими наблюдениями и построенной на их базе теорией. И поскольку первые всегда несут на себе отпечаток чувственных качеств, легко посчитать, что и теории тоже, что, конечно же, не соответствует действительности.
notes
Примечания