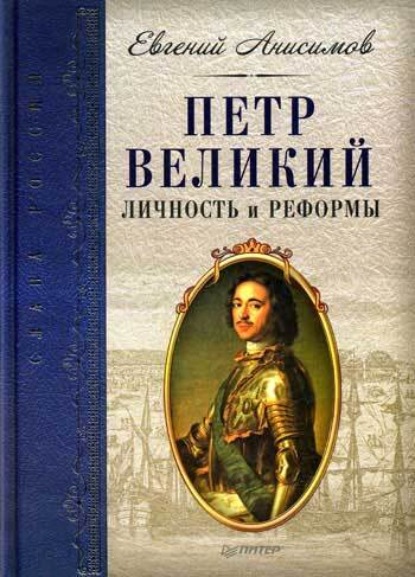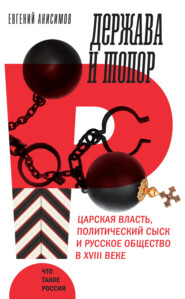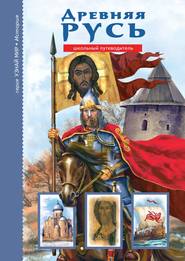По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петр Великий: личность и реформы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что и говорить, такая манера общения явно не укладывается в образ поведения великого царя, известный нам из других источников. Думаю, что здесь нет противоречия. Петр был убежден, что во имя государственных целей можно пренебречь многими моральными нормами. На этом был построен институт фискальства и шире – культура доносов, процветавшая при Петре. Тем более мораль частного, «партикулярного» человека не походила, по мысли царя, на мораль властителя, живущего во имя высших целей государства. Мысли из записной книжки Петра иллюстрируют это. Петр так прокомментировал выражение «Не воздавай неприятелю, когда и лукавство мыслит, ибо совестию больше возвратитца, нежели возмездием»: «Истинно есть вышеписанные слова, когда по прошествии дела, но в настоящем весьма инако, ибо боротца надлежит, а когда пройдет, не воздавать. Но сие партикулярным персонам надлежит, а властителем весьма инако, ибо должны всегда мстить и возвращать обиженное от неприятеля своему отечеству». Иначе говоря, то, что простой человек просить может, невозможно для властителя.
Домик Петра Великого в Петербурге.
Но это лишь одна сторона петровского демократизма. Гораздо важнее другая, имевшая далеко идущие последствия. Тот же Юль записал 10 декабря 1709 года: «После полудня я отправился на Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле, но в тот день был поднят один форштевень, так как стрелы оказались слишком слабы для подъема форштевня. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получает жалованье), распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, коим владеет искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники. Бывшие на верфи офицеры и другие лица ежеминутно пили и кричали.
В боярах, обращенных в шутов, недостатка не было, напротив, их собралось здесь большое множество. Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт. Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальства».
Мало того, что Петр служил, работал как плотник, он являлся еще и «подданным» шутовского «князя-кесаря» Ф. Ю. Ромодановского, которому писал доношения, челобитные, обращался к нему, как подданный к властителю. Сразу же заметим, что Ромодановский и другие воспринимали это однозначно, как игру, и письма-просьбы Петра понимали как царские указы, подлежащие обязательному исполнению.
Тут, конечно, приходит на память Симеон Бекбулатович – вассальный касимовский хан, которому Иван Грозный «передал» престол и писал под именем «Ивашки» уничижительные челобитные. «Отдав» марионетке престол, Иван стремился таким образом развязать себе руки для нового цикла кровавых расправ с реальными и воображаемыми противниками. Петр, хотя и уважал Ивана, все же играл в другие игры. Суть их состояла в исполнении «службы». «Служба» – для Петра синтетическое понятие, вобравшее в себя и четкое осознание обязанностей каждого перед государством и государем, и ревностное и честное их исполнение, даже если это сопряжено с риском для здоровья и жизни, и безусловное подчинение воле вышестоящего начальника (что заметил Юль в приведенном выше отрывке), и право на награду за самоотверженный труд или воинский подвиг (об этом сохранились его письма Ромодановскому с благодарностью за присвоение очередного звания).
Некоторые прозорливые современники осознавали это, правильно интерпретируя поведение царя как метод воспитания своих подданных, прием пропаганды нового образа жизни.
Автор записок о Петре, секретарь прусского посольства И. Фоккеродт, писал, что сам царь «не имеет никакого преимущества перед другими, а подобно своим товарищам с ружья, даже с барабана и будет выслуживаться постепенно: для такой цели он в этом случае слагал самодержавную власть в руки князя Ромодановского, который должен повышать его в мины наравне с другими солдатами по его заслугам и без малейшего потворства. Так, пока жив был вышепомянутый князь, именно до 1718 года. Петр разыгрывал такую комедию, что получил от него повышение в генералы и адмиралы, которые должности ему угодно было возложить на себя. Это объявление имело то действие, что дворяне из самых знатных фамилий, хотя и не покидая и предрассудка о достоинстве своего происхождения… однакож оставались с ним на службе и стыдились заявлять такие притязания, которые могли показать, будто бы они думают быть лучше их государя». Наблюдения Фоккеродта основательны: еще в 1705 году английский посол Ч. Уитворт писал: «Царь, находясь при своей армии, до сих пор не является ее начальником, он состоит только капитаном бомбардирской роты и несет все обязанности этого звания. Это, вероятно, делается с целью подать пример высшему дворянству, чтобы и оно трудом домогалось знакомства с военным делом, не воображая, как, по-видимому, воображало себе прежде, что можно родиться полководцем, как родишься дворянином или князем».
Практически о том же сообщает в своих записках и токарь царя Андрей Нартов. Характеризуя отношение Петра к Ромодановскому на людях, он пишет: «При выездах садился Петр Великий в карете против князя-кесаря, а не рядом с ним, показывая подданным пример, какое оказывает почтение и повиновение к высшей особе. Чин вице-адмирала от князя-кесаря объявлен был царю Петру Алексеевичу, яко бывшему контр-адмиралу, в Сенате, где князь-кесарь сидел посреди всех сенаторов на троне и давал аудиенцию государю при прочтении письменной реляции подвигов его, и образец прочим, что воинские достоинства получаются единственно по заслугам, а не породою и счастьем». Принципиально важно заметить, что Петр понимал службу не просто как добросовестное исполнение обязанностей и подчинение вышестоящему, а как Служение государству. Именно в этом он видел смысл и главную цель своей жизни и жизни своих подданных. О роли этого фактора при оценке личности Петра, пожалуй, лучше других сказал Н. И. Павленко: «Пестрота черт характера Петра тем не менее не противоречила представлениям современников и потомков о цельности его натуры. Монолитность образу придавала идея служения государству, в которую глубоко уверовал царь и которой он подчинил свою деятельность, проявлялась ли она в форме необузданной деспотичности или безграничной самоотверженности, происходила ли она в сфере военно-дипломатической или гражданской».
Это наблюдение позволяет дать объяснение тем поступкам и действиям Петра, которые подчас, казалось бы, явно противоречат его характеру, как человека импульсивного, живого, нетерпеливого. Особенно отчетливо это проявлялось в дипломатической деятельности. Достаточно вспомнить историю его отношений с неверными союзниками – датским королем Фредериком IV, польским королем и курфюрстом Саксонии Августом II – историю, в которой Петр, выдающийся дипломат, проявляя редкое терпение, такт, обуздывая свои порывы, сумел достичь важнейшей цели: восстановить после 1706 года Северный союз против Швеции. Прибывший в 1709 году датский посланник Юст Юль стремился добиться для Дании помощи со стороны России, для чего вел неоднократно переговоры с Петром.
Предоставим слово самому Юлю: «Ввиду затруднений, с какими… сопряжен порой доступ к царю, я воспользовался нынешним обедом, за которым сидел с ним рядом, чтобы, согласно приказанию моего всемилостивейшего государя и короля, переговорить с ним о разных вещах. Во время этой беседы царь весьма благосклонно и охотно слушал меня и отвечал на все, что я ему говорил. Однако известное лицо, стоявшее с нами, предостерегло меня и заверило, что само оно слышало, как царь сказал по-русски генерал-адмиралу, что в настоящее время ему очень не хочется говорить со мною о делах. Но так как поручение моего короля требовало, чтобы я снесся с царем, не упуская времени, то я продолжал разговор, и он снова стал слушать меня с прежнею сосредоточенностью и вниманием. Тут, зная положительно (получив, как сказано выше, заверения), что в данную минуту ему докучны мои речи, я с величайшим удивлением убеждался, до какой степени он умеет владеть своим лицом и как ни малейшей миной, ни равно своими приемами он не выдает своего неудовольствия либо скуки».
Удивляться такому поведению импульсивного Петра, вероятно, не следует: царь – весь внимание, так как дело касается интересов государства – того, что было для него превыше всего. Человек необычайно способный, трудолюбивый, он наслаждался работой, особенно той, которая приносила реальные результаты, была видна всем. В самых разных сферах деятельности он был заметен. Как писал англичанин на русской службе, Джон Перри, «о нем можно сказать, что он сам вполне солдат и знает, что требуется от барабанщика, равно как и от генерала. Кроме того, он инженер, пушкарь, делатель потешных огней, кораблестроитель, токарь, боцман, оружейный мастер, кузнец и прочее; при всем этом он часто сам работает собственноручно и сам наблюдает, чтобы в самых мелких вещах, как и в более важных распоряжениях, все было исполнено согласно его мысли». Несомненно, личный пример служения государству, который Петр самозабвенно демонстрировал на глазах тысяч людей на стапелях верфи, лесах стройки, мостике корабля или на поле боя, был необычайно эффективен, заразителен для одних и обязывал других. Петр был искренне убежден, что царствование – это его такая служба России, что, царствуя, он исполняет свой долг перед государством. Своим примером он призывал и всех своих подданных исполнять свои обязанности так же самоотверженно. Нартов передает: «В бытность в Олонце при питии марциальных вод его величество, прогуливаясь, сказал лейб-медику Арешкину (Арескин. – Е. А.): „Врачую тело свое водами, а подданных – примерами“». Теоретиком абсолютизма архиепископом Феофаном Прокоповичем была выдвинута целая концепция «образцовой, высшей обязанности» царя на его «службе». Самодержец, согласно идее Феофана, поставлен на вершину «чинов», является высшим «чином», в который его определил сам Бог, поручив ему нелегкую «службу» управления подданными. Такая божественно-бюрократическая концепция полностью отвечает идеям создателя «Табели о рангах». Размышляя о данных от Бога «чинах», Феофан в известной проповеди «Слово в день Александра Невского» (1718 год) исходит из общих положений о службе: «…всякий чин от бога есть… то самое нужднейшее и богу приятное дело, его же чин требует: мой мне, твой тебе и тако о прочих. Царь ли еси? Царствуй убо, наблюдая да в народе будет беспечалие, а во властях правосудие и како от неприятелей цело сохранити отечество. Сенатор ли еси? Весь в том пребывай, како полезныя советы и суд не мздоприимный, не на лица зрящий, прямый же и правильный произносити. Воин ли еси?..» и т. д.
Подробнее обязанности монарха были изложены в известных положениях «Правды воли монаршей»: «Царей должность есть… содержать подданных своих в беспечалии и промышлять им всякое лучшее наставление к благочестию, так и честному жительству, да будут же подданнии в беспечалии; должен царь пещися да будет истинное в государстве правосудие на охранение обидимых от обидящих подданых себе; також и да будет крепкое и искусное воинство на защищение всего отечества от неприятелей. А чтобы было и всякое лучшее наставление, должен царь смотреть, чтоб были искуснии учители как духовний, так и гражданстии довольное число. О таковых своих должностях много имеют государи учения… От сих и прочих писаний явно есть царского сана долженство, еже есть сохраняти, защищати, во всяком беспечалии содержати, наставляти и исправляти подданных своих».
Очень четко обозначил Петр свои обязанности в речи 1719 года, обращенной к дворянству после казни царевича Алексея: «…первые и главные обязанности монарха, призванного богом к управлению целыми государствами и народами, состоят в защите от внешних врагов и в сохранении внутреннего мира между подданными посредством скорого и праведного воздания каждому по справедливости. Долг монарха самому вести войска свои в бой и наказывать зло в лице людей, наиболее высоко стоящих по рождению или по богатству, совершенно так же, как и в лице последнего мужика».
Разумеется, для успешного осуществления этих основных обязанностей монарха он должен, по мысли Феофана, иметь абсолютную власть, а именно: «власть законодательную крайне действительную, крайный суд износящую… а самую ни каковым же законом не подлежащую». Попытки обосновать обязанности монарха и достаточно точно сформулировать пределы, точнее, беспредельность его власти – результат новых веяний, которые коснулись политической культуры России в конце XVII – начале XVIII века.
Мысли Феофана о «службе» и власти монарха не были оригинальными, они стали производными идей, которыми жила правовая и философская мысль Западной Европы того времени. Именно об этом и следует несколько подробнее сказать. Из многих привычных символов Петровской эпохи нужно особо выделить корабль под парусами со шкипером на мостике – сразу вспоминается Пушкин:
Сей шкипер был тот шкипер славный.
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
Почему корабль? Думаю, что и для Петра это тоже было не только транспортное средство для перевозки грузов по водной поверхности. Корабль – вечная любовь Петра – был для него символом организованной, рассчитанной до дюйма структуры, материальным воплощением человеческой мысли, сложного движения по воле разумного человека. Более того, корабль для Петра – своеобразная модель идеального общества, лучшая форма организации, опирающейся на знание законов природы в извечной борьбе человека со слепой стихией.
За этим символом целый пласт культуры, мир интеллектуальных ценностей эпохи рационализма, европейского XVII века, преемника Возрождения века XVI и предшественника Просвещения XVIII века. Плеяда выдающихся мыслителей оформила круг идей, создала атмосферу, которой дышали поэты, художники, ученые, государственные деятели. Среди властителей умов – Бэкон, Спиноза, Локк, Гассенди, Гоббс, Лейбниц. Эти идеи стали активно проникать в Россию вместе с реформами Петра, и имена великих философов века рационализма не были чужды русскому уху.
Что же это за идеи? Упрощая, можно выделить несколько наиболее важных. Человек XVII века, как никогда раньше, ощутил силу опытного знания, в котором увидел средство достижения господства над природой. В этой борьбе особое место отводилось организации человеческого общества, конкретнее – государству. Оно мыслилось как установление, возникшее по воле свободных людей, заключивших, ради собственной безопасности, договор, по которому они передавали свои права государству. Государство, таким образом, оказывалось чисто человеческим установлением, человек мог его совершенствовать в зависимости от общих целей, которые он ставил перед собой. Государство, считал Гоббс, строят как дом (как корабль, добавим мы, следуя заданному образу). Эту мысль часто повторяли в разных вариантах, ибо она была оружием, вытеснявшим средневековую идею неизменности и богоданности государственных форм.
Производной от этой идеи была другая: государство есть идеальный инструмент, универсальный институт воспитания людей, превращения их в сознательных, добродетельных, полезных обществу граждан. Рычагами государства служат законы и организация. Право, как и само государство, есть творение человека, и, совершенствуя законы, добиваясь с помощью учреждений их реализации, можно добиться процветания, достичь всеобщего счастья, всеобщего блага – туманной, но всегда влекущей людей цели.
Человечеству, вышедшему из обскурантистского сумрака Средневековья, казалось, что, наконец, найден ключ к счастью – стоит правильно сформулировать законы, усовершенствовать организацию, добиться беспрекословного, всеобщего и точного исполнения начинаний государства. Неслучайным было усиление влияния в обществе дуализма – учения, при котором Богу отводилась роль первотолчка. Далее же, считали дуалисты, природа и человек развиваются по собственным, естественным законам, которые предстоит только обнаружить и записать. Отсюда эта поразительная для нас оптимистическая, наивная вера людей XVII—XVIII веков в неограниченные силы разумного человека, возводящего по чертежам, на началах опытного знания, свой дом, корабль, город, государство. У этого времени был и свой герой: Робинзон Крузо, не столько литературный образ, сколько символ века рационализма, показавший всему миру, что человек может преодолеть все невзгоды и несчастья, веря в свои силы, опираясь на опытное знание.
Важно также отметить, что в оценке общественных явлений и институтов преобладал механицизм, точнее – механистический детерминизм. Выдающиеся успехи математики и естественных наук создали иллюзию, что можно трактовать жизнь во всех ее проявлениях как процесс механический. С равным рвением такой подход применялся к физиологии, психологии, обществу, государству, ибо согласно учению Декарта о всеобщей математике (mathesis universalis) все науки рассматривались как разновидность математики – единственно достоверного и, что представлялось особенно важным тогда, лишенного мистики знания.
Без учета всех этих идей можно понять неверно и замыслы Петра, и его жизненную концепцию. Конечно, было бы большим преувеличением думать, что Петр владел всей суммой философских знаний эпохи. Он не был философом, даже, вероятно, не имел философского склада ума. Но нельзя сбрасывать со счетов широкое распространение (пусть даже в популярной, упрощенной форме) этих идей в общественном сознании, их роль в складывании духовной атмосферы, в которой жили мыслящие люди того времени. Нельзя забывать и того, что Петр был знаком с Лейбницем, возможно – с Локком, наконец, нужно учитывать тот пристальный интерес, который проявлял царь-реформатор к работам юристов и государствоведов Г. Гроция, С. Пуфендорфа. Книга последнего «О должности человека и гражданина» была при Петре переведена на русский язык и очень высоко им ценилась. Важно, что в этих авторитетных трудах философские идеи века рационализма преломлялись применительно к государству. Не случайна и переписка Лейбница с Петром, где затрагивалась проблема государственных реформ и где Лейбниц дает образ государства в виде часового механизма, все колесики которого действуют в идеальном сцеплении. Не приходится сомневаться, что этот образ был близок мировосприятию Петра – истинного сына своего века.
В его подходе к жизни, людям мы видим многие черты, получившие преобладающее развитие в то время: предельный рационализм, практицизм. Петр был типичным технократом. Проявляя интерес ко многим отраслям знаний, он явно отдавал предпочтение точным наукам, знаниям, имевшим прикладное, практическое значение. Кроме математики, механики, кораблестроения Петр знал и другие науки: фортификацию, архитектуру, баллистику, черчение и т. д., не говоря уже о «рукодельстве» – ремеслах. Многие из этих дисциплин входили в своеобразный «джентльменский набор» образованного человека Петровской эпохи, были обязательными для дворянина точно так же, как владение шпагой, пистолетом, лошадью. В указе о переводе нужнейших в России книг Петр перечисляет те «художества», которые требуют особого внимания. Среди них упомянуты «математическое», «механическое», «ботаническое», «архитектур милитарис, цивилис», а также «анатомическое» и «хирургическое» «художества». Особым уважением Петра пользовалась медицина, точнее – хирургия. Ею Петр увлекался с давних пор, наблюдая, а потом и сам делая довольно сложные операции, степень риска которых мог по-настоящему оценить лишь сам пациент. Любовь Петра к медицине больше, чем плавание в неверной стихии моря или оглушающий рев пушек, испытываемых царем, приводила в трепет его приближенных, ибо Петр считал себя непререкаемым авторитетом в этой, как, впрочем, и в других, отрасли знаний. Он внимательно следил за здоровьем своих придворных и родственников, незамедлительно предлагая свои услуги, тем более что футляр с хирургическими инструментами всегда носил с собой, а вырванные зубы аккуратно складывал в особый мешочек. Примечательна запись в дневнике Берхгольца за ноябрь 1724 года: «Герцогиня Мекленбургская (Екатерина Ивановна, племянница Петра. – Е. А.) находится в большом страхе, что император скоро примется за ее больную ногу: известно, что он считает себя великим хирургом и охотно сам берется за всякого рода операции над больными. Так в прошлом году он собственноручно и вполне удачно сделал вышеупомянутому Тамсену (точнее, Таммесу. – Е. А.) большую операцию в паху, причем пациент был в смертельном страхе, потому что операцию эту представляли ему весьма опасною».
Когда операция оказывалась неудачной, Петр с неменьшим знанием дела препарировал труп своего пациента в анатомическом театре, ибо был неплохим патологоанатомом. Примером этого увлечения Петра может служить история коллекции Фридриха Рюйша, находящейся в Кунсткамере и до сих пор вызывающей экзальтированный интерес многих гостей Петербурга.
С этим собранием известного голландского врача и анатома Петр познакомился еще в 1698 году в Амстердаме и неоднократно пытался выведать у мэтра секрет изобретенного им препарирования человеческих органов, при котором они долгое время не теряли натурального вида и цвета. Однако Рюйш соглашался уступить свой секрет вместе со знаменитой коллекцией уродов только за огромную сумму. Лишь в 1717 году Петр сумел за 30 тысяч гульденов приобрести коллекцию и узнать столь важный для него секрет.
Рационализм проявлялся и в том, как Петр относился к переводам необходимых книг. В указе «труждающимся в переводе экономических книг» от 16 сентября 1724 года он писал: «Понеже немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять только для того, чтоб велики казались, чего кроме самого дела и краткого пред всякою вещию разговора, переводить не надлежит, но и вышереченной разговор, чтоб не праздной ради красоты, но для вразумления и наставления о том чтущему был, чего ради о хлебопашестве трактат выправил, вычерня негодное, и для примеру посылаю, дабы по сему книги перевожены были без лишних разказоф, которые время только тратят и у чтущих охоту отъемлют». Образцом рационалистического подхода Петра может служить, конечно, исправленный его рукой алфавит, из которого выброшено все, что казалось Петру затрудняющим письмо, что устарело или было несовершенно.
Искусство Петр оценивал тоже с позиций технократа. Произведения искусства должны были, по мысли царя, служить либо украшением, либо символом, наглядным пособием, дающим людям знания или назидательные примеры для их морального совершенствования. В остальных случаях Петр проявлял полное равнодушие к художественным сокровищам Парижа, Дрездена, Вены, Лондона. Пожалуй, лишь фейерверки и всевозможные «огненные потехи» были подлинной эстетической страстью Петра, возможно, в них он находил редкое сочетание прекрасного с полезным. Может быть, следует поверить автору известных «Анекдотов о Петре Великом» Я. Штеллину, передававшему со слов прусского посланника Мардефельда о том, как, взирая на фейерверк, Петр сказал прусскому посланнику: «Мне нужно увеселительным огнем приучать мой народ к огню в сражении. Я опытом узнал, что тот и в сражении меньше боится огня, кто больше привык к увеселительным огням».
Согласно другому рассказу, Петр мечтал о таком устройстве Летнего сада, чтобы гуляющие «находили в нем что-нибудь поучительное». С этой целью были оборудованы фонтаны с фигурами – персонажами Эзоповых басен, а подле каждого фонтана поставили «столб с белою жестью, на которой четким русским письмом написана была каждая баснь с толкованием». Не в продолжение ли этой традиции рядом с каждой скульптурой Летнего сада укреплены таблички с пояснениями, а столь любимый детьми памятник Крылову стоит именно здесь, где некогда петровские современники разглядывали фонтаны на мотивы басен великого предшественника русского баснописца?
В литературе не раз ставился вопрос о том, был ли Петр религиозен. И большинство исследователей не пришли к определенному ответу – столь противоречивым является дошедший до нас исторический материал. Действительно, с одной стороны, мы видим: несомненная веротерпимость (исключая традиционное негативное отношение к евреям, исповедующим иудаизм), дружба с различными иноверцами, интерес к мировым религиям, естественнонаучным проблемам, отказ от ритуальных норм древнерусского «благочестия» как важнейшей черты самодержца, крайне отрицательное отношение к суевериям, корыстолюбию церковников, презрение к монашеству как форме существования, кощунственное шутовство Всепьянейшего собора и, наконец, самое важное – реформа церкви, приведшая к ее окончательному подчинению власти государства. Все это создало Петру устойчивую в широких массах народа репутацию «табашного безбожника», «антихриста», имя которого с проклятием поминалось многими поколениями старообрядцев. Достойна примечания история с недавним обнаружением в таежной глухомани Сибири поселения старообрядцев Лыковых, помнивших и повторявших из всей истории имена только двух своих заклятых врагов – Никона и Петра, о которых они говорили так, как будто те не умерли два с половиной – три столетия тому назад, а были их современниками.
С другой стороны, читая тысячи писем Петра, отчетливо видишь, что имя Божие в них – не дань традициям или привычке, бытующей и сейчас среди атеистов («слава богу», «дай бог…» и т. д.), но свидетельство несомненного религиозного чувства. Разумеется, при этом я заведомо отбрасываю слова, формулировки, ритуальные выражения, употребляемые исключительно в пропагандистских, политических целях. Важнее другое. Антицерковная политика Петра никогда не становилась антирелигиозной, а в церковной же его политике нет ни малейшей тенденции к протестантизму. Нельзя не заметить и полной пассивности и уклончивости Петра, когда деятели католицизма предлагали ему реализовать старую идею Флорентийской унии об объединении церквей. То же предлагали и протестантские епископы. Они знали, что делали, ибо в принципе это вполне отвечало идеям царя о скорейшем и теснейшем сближении России с Западом. При всей склонности Петра к шутовству на религиозной почве он отнюдь не пренебрегал обязанностями православного христианина. Примечательна и запись в его блокноте, которая фиксирует один из аргументов спора (возможно, мысленного) царя с атеистами: «Против отеистов. Буде мнят, законы смышленные, то для чего животное одно другое ест, и мы. На что такое бедство им зделано». Речь здесь, по-видимому, идет о тезисе, утверждающем разумное начало природы.
Согласно этому тезису, ее виды возникали в соответствии с внутренними, присущими самой природе рациональными законами, не имеющими ничего общего с божественными законами. Аргументом против этого широко распространенного рационалистического тезиса, полагает Петр, является несовместимость разумности («смышлености», по терминологии царя) природы с царящей в ней жестокой борьбой за выживание, которая, по мысли Петра, разрушает внебожественную гармонию природы. Именно эта мысль и служит для него веским доказательством неправоты атеистов, отрицающих Бога – творца и повелителя природы, который в концепции Петра выступает грозным Яхве-деспотом, по образу и подобию которого, возможно, мыслил себя царь.
Думаю, что в целом у царя не было сложностей с Богом. Он исходил из ряда принципов, которые примиряли его веру с разумом. Он считал, что нет смысла морить солдат в походах и не давать им мяса во время поста – им нужны силы для победы России, а значит, и православия. Известно, как подозрительно относился Петр к различного рода чудесам, мощам. Сохранился указ Синоду от 1 января 1723 года о том, чтобы «серебряный с изображением образа мученика Христофора ковчег, о котором его величеству Синодом докладовано, перелить в какой пристойно церковный сосуд, а содержавшуюся во оном под именем мощей слоновую кость положить в синодальную куншт-камору и написать на оную трактат с таким объявлением, как наперед сего когда от духовных инквизиций не было, употреблялись сицевым (таким. – Е. А.) и сим подобныя суперетиции (подделки. – Е. А.), который и от приходящих в Россию греков производимы и привозимы были, что ныне уже синодальным тщением истребляются».
Нетрудно представить себе петровские «сентенции» церковникам, хранившим слоновую кость вместо мощей святого. Примечательна и история с экскурсией Петра в музей Лютера в Виттенберге. Осмотрев место захоронения великого реформатора и его библиотеку, Петр с сопровождающими «были в его палате, где он жил и за печатью на стене в той палате указывали капли чернил, и сказывали, что, когда он, сидя в той палате, писал и в то время пришел к нему диавол, тогда будто он в диавола бросил чернильницу, и те чернила будто тут на стене доныне остались, которыя сам государь смотрел и нашел, что оныя чернильныя бразки новы и сыроваты; потом просили тамошние духовные люди, дабы государь подписал в той палате что-нибудь своею рукою на память своего бытия и по тому их прошению государь подписал мелом сие: чернила новыя и совершенно сие неправда».
Но, говоря о подобных, довольно характерных для Петра проявлениях рационализма, не следует впадать в крайность, преподносить их как свидетельство его атеизма. Примечателен и не лишен правдоподобия рассказ Нартова о посещении новгородского собора Святой Софии Петром и Яковом Брюсом – известным книжником, точнее, чернокнижником, алхимиком, о чьем безверии и связи с дьяволом говорили многие современники. Стоя с царем возле рак святых, Брюс рассказывал Петру о причинах нетленности лежащих в них тел. Нартов пишет: «Но как Брюс относил сие к климату, к свойству земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанной жизни, и сухоядению или пощению (от слова „пост“. – Е. А.), то Петр Великий, приступя, наконец, к мощам святого Никиты, архиепископа Новгородского, открыл их, поднял их из раки, посадил, развел руки, паки сложив их, положил, потом спросил: „Что скажешь теперь, Яков Данилович? От чего сие происходит, что сгибы костей так движутся, яко бы у живого, и не разрушаются, и что вид лица, аки бы недавно скончавшегося?“ Граф Брюс, увидя чудо сие, весьма дивился и в изумлении отвечал: „Не знаю сего, а ведаю то, что Бог всемогущ и премудр“».
Может быть, Брюс действительно несколько растерялся и сразу не нашелся, что сказать Петру, который, согласно Нартову, при этом поучительно заметил: «Сему-то верю и я и вижу, что светские науки далеко еще отстают от таинственного познания величества творца, которого молю, да вразумит меня по духу».
Представим себе эту фантасмагорическую ситуацию, когда, стоя у переворошенной священной раки с сидящим в ней мертвецом, самодержец всероссийский и ученый генерал-фельдцейхмейстер ведут философскую беседу о пределах познания мира. И эта сцена поражает своей кощунственностью (ибо нельзя забывать, что происходит она не в Кунсткамере, а в одной из православных святынь, у нетленного праха святого, которому поклоняются поколения верующих) и одновременно тем, как точно она отражает лишенную мистики и суеверия веру Петра, основания которой он ищет как раз в бессилии науки объяснить явления, источником которых, следовательно, может быть, по мнению Петра, только Бог.
Примечательна и другая сторона «рационалистической» веры царя. Он явно идентифицировал понятие Бога, высшего существа, с роком, «некоей силой, управляющей нами», судьбой, бороться с которой бессмысленно. При этом он далек от христианского смирения. В письме грузинскому царю Арчилу II от 20 мая 1711 года, сообщая о смерти его сына Александра, он разворачивает свою аргументацию так: «Но что же может вам помощи в сем невозвратном уроне? Точию яко мужу разумну, представляем во отраду три вещи, то есть великодушие, разсуждение и терпение, ибо сия обида не от человека, которому б заплатить или отмстить можем, но от всемагучего Бога, которой сей непреходимый предел уставил».
Вообще создается впечатление, что строй мыслей Петра был далек от религиозного: события, которые он наблюдал и в которых участвовал, вызывали у него (в соответствии с языком культуры европейского XVII века – времени классицизма) не библейские, а античные образы, причем образность сравнений была не натужна, а естественна и точна. Так, в одном из писем с победного поля под Полтавой он сравнивает гибель шведской армии с гибелью возгордившегося и не управившегося с солнечной колесницей сына бога Солнца – Гелиоса Фаэтона, в другом – сравнивает уходящего от него противника с бегущей от преследователя нимфой Эхо.
Примечательны запомнившиеся царю сны, которые он сразу же записывал или приказывал записать своему секретарю. Они, отражая раскрепощенное сознание этого человека, ярко показывают особо символичный склад его мышления. Сны эти состоят как бы из блоков аллегорий, имевших широкое хождение в культуре того времени, и их можно было бы использовать как описание какого-либо праздничного фейерверка, аллегоричной групповой скульптуры, предназначенной для очередного календарного праздника: «1715 г., января с 28-го на 29-е число: будучи на Москве, в ночи видел сон: господин полковник (то есть сам Петр. – Е. А.) ходил на берегу, при реке большой и с ним три рыбака, и волновалася река, и большия прибивала волны. И идет волна, и назад отступала, и так били волны, что покрывало их. И назад отступала, а оне не отступили. И так меньше и уступила вода в старое состояние свое».
А вот сон 1723 года: «Его величество на 26-е число апреля видел сон: якобы орел сидел на дереве, а под него подлез или подполз какой зверь немалой наподобие каркадила или дракона, на которого орел тотчас бросился и с затылка у оного голову отъел, а имянно переел половину шеи и умертвил и потом, как много сошлось людей смотреть то, подполз такой же другой зверь, у которого тот же орел отъел и совсем голову и то яко бы было явно всем». Может ли кто из современных читателей вспомнить столь яркий аллегоричный сон? – охота кошки за мышами в счет нейдет.
Идея рационализма в полной мере распространялась и на государство, которое должно было в первую очередь подчиняться действию начал разума, логики, порядка. Петр, исходя из этих начал, жил, показывая пример служения, службы, и в соответствии с духом времени формулировал идею обязанностей монарха перед подданными. Особенно отчетливо это выразилось в манифесте о приглашении иностранцев на русскую службу от 16 апреля 1702 года. И хотя манифест остался неизвестен русскому современнику Петра и предназначался «на экспорт», идеи его примечательны для мировоззрения Петра. Вкратце они сводятся к следующему: Бог определил царя обладать землями и государством и «таким образом правительствовати, дабы всяк и каждый из наших верных подданных чювствовати мог, како наше единое намерение есть о их благосостоянии и приращении усердно пещися». Поэтому Петр считал своим первейшим долгом заботиться о безопасности государства, расширении торговли – главного источника благосостояния. Кроме этих дежурных для идеального монарха обязанностей Петр «ввернул» в манифест и самую близкую для него в то время идею коренного преобразования страны на европейских началах. Именно эту задачу «сочинения российского народа» он считал важнейшей, посвятив ее решению всего себя.
Но, восхищаясь столь редкой для правителя простотой, работоспособностью, целеустремленностью и самоотверженностью Петра, нельзя забывать при этом о двух принципиальных нюансах: во-первых, круг обязанностей монарха по «служению» народу определялся самим монархом и варьировался по его усмотрению, не будучи закрепленным в законодательстве; во-вторых, «служба» царя и служба его подданных существенно различались между собой. Ведь для последних служба государству, вне зависимости от их желания, сливалась со службой царю, шире – самодержавию. Иначе говоря, своим каждодневным трудом Петр показывал подданным пример, как нужно служить ему, российскому самодержцу. Не случайно он однажды произнес тост, так хорошо запомнившийся очевидцу: «Здравствуй (то есть „Да здравствует!“ – Е. А.) тот, кто любит Бога, меня и Отечество!» Другой мемуарист (англичанин Перри) подметил: «Царь обращает особенное внимание на то, чтобы его подданные сделались способными служить ему во всех этих делах. Для этой цели он не жалеет трудов и постоянно сам работает в среде этих людей…» Конечно, здесь не следует все упрощать. Да, служение Отечеству, России – важнейший элемент политической культуры петровского времени. Его питали известные традиции борьбы за независимость, за существование, немыслимое без национальной государственности. Но все же основной, определяющей была иная, идущая из древности традиция – отождествления власти и личности царя с государством. Апофеоз же этих идей наступил при Петре, что отразилось в полной мере в правовых нормах. В воинской присяге, утвержденной при Петре, нет понятия России, Отечества, земли, а есть только понятие «царя-государя», а само государство упоминается как «Его царского величества государство и земли». Но даже этих слов нет в присяге служащих, включенной в Генеральный регламент. Присяга давалась «своему природному и истинному царю и государю, всепресветлейшему и державнейшему Петру Первому, царю и Всероссийскому самодержцу и прочая, и прочая, и прочая». Затем шла клятва в верности «высоким законным наследникам, которые по изволению и самодержавной Его царского величества власти определены и впредь определяемы и к восприятию престола удостоены будут, и Ее величества государыне царице Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным рабом и подданным быть и все, к высокому его царского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и прерогативы (или преимущества), узаконенные и впредь узаконяемые по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять и в том живота своего в потребном случае не щадить». Вполне традиционная идея самодержавия получила при Петре новые импульсы, когда была предпринята попытка рационалистически обосновать абсолютную власть. Необходимость этого была обусловлена тем, что обществу петровского времени было уже недостаточно сознания богоданности царской власти как единственного аргумента для ее почитания. Нужны были иные, новые, убедительные, точнее – рационалистические принципы ее обоснования. Поэтому Феофан Прокопович ввел в русскую политическую культуру понятия, взятые у теории договорного права, согласно которому люди, чтобы не самоуничтожиться, должны были передать себя повелителю, обязанному их защищать, но взамен получавшему над ними полную власть, которая выразилась в образе разумного, видящего за далекие горизонты монарха – Отца Отечества, народа. В «Правде воли монаршей» Феофан доходит до парадоксального на первый взгляд, но логичного для системы патернализма вывода о том, что если государь всем своим подданным «Отец», то тем самым он «по высочайшей власти своей» и своему родному отцу «Отец».
Любопытно объясняет токарь Петра А. Нартов частые расправы царя над своими провинившимися сановниками: «Я часто видел, как государь за вины знатных чинов людей здесь (то есть в токарне. – Е. А.) дубиною потчивал, как они после сего с веселым видом в другие комнаты выходили и со стороны государевой, чтоб посторонние сего не приметили, в тот же день к столу удостаиваны были». И далее самое главное: «Но все такое исправление чинилось не как от императора подданному, а как от отца сыну, в один день наказан и пожалован». Близок к этому и рассказ Штеллина о том, как на поломанном мосту царь избил дубинкой ехавшего с ним в одноколке обер-полицмейстера Петербурга А. Девьера, приговаривая: «Впредь будешь ты лучше стараться, чтоб улицы и мосты были в надлежащей исправности, и сам будешь за этим смотреть». «Между тем, – продолжает Штеллин, – мост был починен, и гнев государя прошел. Он сел в одноколку и сказал генерал-полицмейстеру весьма милостиво, как бы ничего между ними не случилось: „Садись, брат!“».
Петру, несомненно, присущи многие черты харизматического лидера. Его власть основана не столько на традиционной богоданности, но, главным образом, на признании исключительности его качеств, их демонстративно-педагогической «образцовости» в исполнении «должности». Феофан, обращаясь к царю, но глядя при этом на огромную толпу, слушающую проповедь, патетически восклицал: «Кто тако, якоже ты изучил и делом показал еси артикул сей, еже ходити по долженству своего звания? Мнози царие тако царствуют, яко простой народ дознатися не может, что есть дело царское. Ты един показал еси дело сего превысокого сана быти собрание всех трудов и попечений, разве что и преизлишня твоего звания являети нам в царе и просто воина, и многодельного мастера, и многоименитаго делателя? И где бы довело повелевати подданным должная, ты повеление твое собственными труды твоими и предваряешь и утверждаешь».
Вместе с тем Петр был неприхотлив, прост в быту, жил в скромном домике, затем – в тогдашних, весьма непритязательных, Летнем и Зимнем дворцах. Получая жалованье генерала и корабельного мастера, он не ел дома с золотой посуды, а его коронованная супруга прилежно штопала ему чулки. Передает стиль жизни Петра и в то же время исполнение усвоенной им роли рассказ Штеллина о том, как царь, проработав целый день в кузнице, получил за выкованные им железные полосы 18 алтын (не взяв 18 золотых, предложенных хозяином кузни). При этом он сказал: «На эти деньги куплю я себе новые башмаки, в которых мне теперь нужда». «При сем, – отмечает Штеллин, – Его величество указал на свои башмаки, которые были уже починиваны и опять протопалисъ, взял 18 алтын, поехал в ряды и в самом деле купил себе новые башмаки. Нося сии башмаки, часто показывал их в собраниях и при том обыкновенно говаривал: „Вот башмаки, которые выработал я себе тяжелою работою“».
О его негативном отношении ко многим традиционным формам почитания самодержца, как и о его постоянной ориентированности на реформы, еще будет подробно рассказано в книге. Он был действительно в чем-то революционен, стремился к радикальному преобразованию, коренной ломке общества. Правда, остается открытым вопрос о цели этой ломки. В петровской России такая ломка привела в конечном счете к закреплению и упрочению вполне традиционных общественных отношений и институтов.