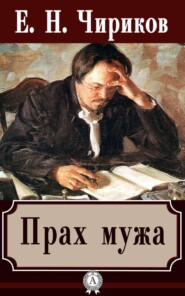По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отчий дом
Жанр
Серия
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, встряхнув вековую кручину,
Он в родимых лесах на врага подберет
Здоровее и толще дубину!
И все под врагом разумели в общем не некое отвлеченное зло и неправду, в которых тонет человечество, а, так сказать, по домашности, министров, губернаторов, исправников, становых, жандармов и вообще всяческое начальство, предержащими властями над ними поставленное. И, конечно, уже никак не мог рассчитывать на «дубину» ни один из присутствовавших печальников народа, особенно сам хозяин, Кудышев, когда-то во младости побывавший в тюрьмах в роли политического преступника, а теперь неустанно сеявший в качестве земца на ниве народной только «разумное, доброе, вечное». Все они считали себя вправе ждать от народа только «сердечного спасибо», ибо одни лечили, другие просвещали, третьи строили мосты и дороги, страховали от пожаров и градобитий, творили правосудие и пр., и пр.
Глава III
Хотя окрестные мужики и бабы продолжали называть владельцев Никудышевки «барами» или «господами», но, в сущности, бары и господа здесь кончились со смертью старого барина, мужа Анны Михайловны. Можно сказать, что покойный Николай Николаевич Кудышев был последним барином в Никудышевке. Помесь крепостника с вольтерьянцем, самодура с сентиментальным мечтателем, одинаково способного как к рыцарскому поступку, так и к варварскому своеволию, – таков был отец Павла Николаевича. В этом последнем никудышевском барине как-то ухитрялись сожительствовать подлинный европеизм с самой подлинной азиатчиной. Мужики его боялись, но любили. За что? Если иной раз и поколотит, то, во-первых, всегда за дело, а во-вторых, непременно вознаградит и щедро. Однажды поймал в лесу порубщика и круто с ним расправился: выбил собственноручно три зуба и приказал выпороть. Потом стал мучиться угрызениями совести просвещенного помещика и, вызвавши пострадавшего мужика, просил все забыть и получить за каждый выбитый зуб по пяти рублей. В числе его благородных поступков следует поставить упомянутый уже выше подарок своим только что раскрепощенным мужикам в 100 десятин земли с лесом, за что он не только жестоко пострадал, а, можно сказать, поплатился жизнью, совершив еще один подвиг. О последнем рассказывали так. Отставленный от предводительства, Николай Николаевич Кудышев с той поры подвергался всяческим гонениям от властей. А тут еще помог этому делу и старший сынок, Павел: будучи студентом-первокурсником, Павел снюхался с народниками-революционерами и попал в дело бунтарей, затеявших поднять народ против помещиков с помощью подложного царского манифеста – «Золотой грамоты». Хотя революционная связь Павла с бунтарями оказалась второстепенной и непосредственного участия в Чигиринском бунте он не принимал, но в тюрьме все-таки посидел. Местные же жандармские власти, с которыми Николай Николаевич всегда вздорил, воспользовались случаем и произвели скандал на всю губернию: приехали в Никудышевку, перерыли все в доме, обыскали все постройки, чердаки и подвалы и нашли-таки какие-то ящики с разным хламом и с непонятными предметами, в которых заподозрили части не то типографского станка, не то литографии. Все эти предметы, а также много книг из библиотеки, бумаги и письма, найденные в кабинете и шкафах с разной рухлядью, изъяли, опечатали и увезли в Симбирск вместе с Николаем Николаевичем. Всполошилась не только вся губернская власть, все дворянство и земство, но даже радостно вздрогнули центральные полицейские учреждения. Попался наконец! Однако вся эта шумная история очень быстро лопнула, как мыльный пузырь, выдутый необузданной фантазией престарелого симбирского жандармского полковника. Хотя в бумагах и были обнаружены два письма страшного тогда Герцена, но по содержанию своему эти вещественные доказательства говорили в пользу арестованного, ибо письма Герцена были ответами на раздраженную ругань Николая Николаевича по адресу «Колокола», из которых явствовало, что дворянин Кудышев совершенно отвергает всю подпольную работу Герцена. Что же касается остатков типографского станка или литографии, то все это оказалось остатками ткацких и красильно-набивных инструментов, уцелевших еще от крепостной мастерской. Хотя все кончилось как будто бы и благополучно, а Николай Николаевич вернулся в Никудышевку со славой победителя, но торжество его было весьма кратко и закончилось трагически. Объясняясь с приехавшим к нему в имение «с извинением» жандармским полковником, Николай Николаевич так вскипел гневом гражданского достоинства, что не воздержался и ответил на какую-то неуместную шуточку полковника плюхой, после чего сам же и упал и, не придя в сознание, часа через два скончался от кровоизлияния в мозг. На похороны почившего со славой героя съехалось множество передовых людей со всей губернии, привезли много венков с вызывающими надписями на лентах, как то: «Рыцарю духа», «Мужу чести и справедливости», «Положившему душу за други своя» и т. п. Была борьба за эти надписи с прибывшими для порядка властями, было и самопожертвование со стороны публики. Молодой земский врач, недавно еще соскочивший со студенческой скамейки и продолжавший носить косоворотку и длинные волосы, произнес дерзкое надгробное слово, которое заканчивалось так:
– Твоя благородная рука поднялась и сделала соответствующий историческому моменту жест. Этим благородным жестом ты как бы крикнул всем нам перед смертью: «Довольно рабского молчания и терпения! Очнитесь и громко кричите: “Мы выросли! Нам надоело быть рабами и обывателями. Мы чувствуем себя гражданами! Спасибо, честный благородный гражданин земли русской! Мы тебя услышали. Спи спокойно и sit tibi terra levis…”»
Николая Николаевича похоронили в фамильном склепе, и он спал там спокойным сном вечности, молодой же человек, земский врач, надолго утратил спокойствие, ибо его в 24 часа выслали в Вологодскую губернию и отдали под надзор полиции.
Так, с большим шумом и треском, ушел из жизни последний никудышевский барин, надолго запечатлев свою личность в памяти властей и передовой интеллигенции всей Симбирской губернии. Что же касается мужиков Никудышевки и ее окрестностей, то они так и не оценили гражданских заслуг покойного барина. После обыска в имении, ареста и освобождения барина по всем окрестным деревням и селам поползли слухи, будто в никудышевской усадьбе начальство открыло фабрикацию фальшивых ассигнаций, но что никудышевские господа откупились настоящими царскими деньгами и потому барина выпустили и дело замяли. Долго потом деревенские бабы боялись барских денег и всякая ассигнация из барского дома внушала сомнения и заставляла советоваться со стариками:
– Погляди-ка, правильная ли! Пес их знает: сказывают, что они сами деньги-то делают…
Прошел год. Мирская молва, что морская волна: пошумела и успокоилась… И семейная скорбь улеглась, притихла. Однако не все умирает с человеком: на юных душах осиротевших детей, один из которых был уже студентом, а два других еще гимназистами, остался неизгладимый след возмущения против… чего? Они и сами не могли бы назвать объекта своего возмущения. Обыск, арест отца, ни в чем не повинного, смерть его, и за всем этим как некий символ: жандарм, полиция, губернатор. Бедный папа ушел от них в ореоле героя и мученика за какую-то поруганную правду и справедливость. Если старший, Павел, уже вкусил от прямолинейной социалистической мудрости и возмущение его направлялось по готовому руслу, то гимназисты были пока еще никакими политическими злобами нетронуты. История с отцом, его смерть, похороны, венки и надмогильные речи, особенно же отказ властей отпустить из тюрьмы на время похорон старшего брата, столкнули их с путей политического неведения и направили их душевное тяготение к тем мыслям и к тем людям, за которые и которых жандармы преследовали… Старшего, Павла, жизнь очень скоро отрезвила от крайних утопий. Оторвавши от всяких прекрасных идеологических призраков, жизнь ткнула его лицом в самую подлинную русскую действительность. Попытка поднять всероссийский мужицкий бунт с помощью царской грамоты кончилась полным крахом, и за нее жестоко пострадали мечтательные обманщики. Только благодаря случайности Павел отделался годом тюрьмы и исключением из университета, с отдачею его, за несовершеннолетием, на поруки матери. Павел надолго засел в имении и должен был как старший мужчина в доме помогать матери распутывать все запутанные узлы финансовой стороны имения и с головою уйти в повседневные кропотливые мелочи сельского хозяйства и деревенского быта. С ранней весны и до глубокой осени ему приходилось пребывать в непрестанном общении с землей, с деревней и мужиком, вплотную подходить к самым устоям народнической веры, – и ее воздушные замки очень скоро рассыпались как карточные домики от дуновения ветра. Эти замки оказались такими же фальшивыми, подложными, какой была «Золотая грамота», за которую он провел целый год в одиночном заключении подлинного, а не воздушного замка. Началась переоценка всех ценностей, приобретенных в нелегальных кружках, где им было получено, так сказать, первоначальное революционное образование. Кстати, под руками оказалась огромная библиотека предков, с креслом, на котором, по семейным преданиям, случалось сиживать историку Карамзину.
Зимами, когда Никудышевку заносило глубокими снегами, а вечера становились бесконечно долгими и беззвучными, Павел Николаевич забирался в этот деревенский склеп книжной мудрости, которую до сей поры с таким аппетитом грызли мыши и крысы, и без кружковых указок запоем читал книги по всем отраслям человеческого знания, стремясь все узнать и все понять. Так прошло три с лишком года. Надзор и поруки кончились. Начальство напомнило об исполнении воинской повинности. Отбывал ее в качестве вольноопределяющегося в ближайшем уездном городке Алатыре и здесь в местном клубе на семейно-танцевальном вечере на Святках познакомился и со всем пылом земляного человека, полного здоровья и неистощимой энергии, влюбился в «тургеневскую девушку», дочь уездного предводителя дворянства, Елену Владимировну Замураеву, отвечавшую ему несомненной симпатией и поощрением, несмотря на то, что дворяне Замураевы, закоренелые столпы старины, находились в постоянной вражде с либералами Кудышевыми. Вопреки долгой неприязни этих местных Монтекки и Капулетти, симбирские Ромео и Джульетта спустя год повенчались, и в Никудышевке появилась прекрасная «молодая барыня». Прожили в имении год, и вдруг оба заскучали: потянуло в суету города, к его огням, к театру, к музыке, к танцам. Примирение и родство с генералом Замураевым сильно подняло шансы бывшего «политического преступника» среди местного дворянства: сперва попал в гласные уездного земства, потом губернского и скоро сделался членом губернской земской управы и надолго обосновался в городе Симбирске. Земская деятельность пришлась ему по душе, но зато оторвала от Никудышевки и отчего дома. Никудышевка очутилась снова на руках «старой барыни» и плутоватого хохла, управляющего. Братья, Дмитрий и Григорий, теперь уже студенты, приезжали из Петербурга только на летние каникулы и не проявляли решительно никакой не только склонности, но даже простой любознательности к сельскому хозяйству и к собственному имению. Когда старший, Павел Николаевич, приезжал на время летнего отпуска с молодой женой погостить в Никудышевку и здесь встречался с младшими братьями, студентами, у обеих барынь, молодой и старой, начинались мигрени от бесконечных их споров…
Глава IV
Дети одной семьи, рожденные на протяжении менее одного десятилетия, братья казались людьми трех взаимно отрицающих друг друга поколений…
Хотя над всеми троими почил, так сказать, дух интеллигентского народничества и все трое принадлежали к секте искателей «Царства Божьего» на земле, но в путях и средствах они совершенно расходились друг с другом…
«Золотая грамота» столкнула Павла Николаевича с путей революционного народничества с его бунтарством в море народной темноты и невежества, партийная занавесочка спала с глаз его, и он поторопился выйти на большую дорогу легальной общественной деятельности со всеми ее неизбежными компромиссами постепенных достижений. Так понятна стала ему мудрость русской пословицы «тише едешь, дальше будешь». Как человек, на своей шкуре познавший мужика, Павел Николаевич говорил:
– Прав Гоголь: хороша русская тройка! Но все-таки на ней больше двенадцати верст в час не ускачешь, а потому нам так далеко еще до «Царствия Божьего», что некуда торопиться!
Павел Николаевич отвергал путь террора и немедленных переворотов не как моралист, а исключительно – по его собственному выражению – как член партии здравого смысла и логики. Выйдя на большую дорогу, он не сразу пошел твердой походкой уверенного путешественника. На первых порах он частенько-таки оглядывался, ибо душа его не сразу пришла в то гармоническое состояние, которое дается уверенностью в самом себе и в своей работе. Где-то в глубине его интеллигентского существа еще долго не умирал «кающийся дворянин» с его «критически мыслящей» личностью и с «долгом перед народом». Иногда после острых столкновений с государственной властью земского самоуправления, почти всегда кончавшихся поражением последнего, у Павла Николаевича опускались руки, пропадала энергия и самая вера в избранное дело. Вот в такие-то моменты он и оглядывался. Воскресало порой не только сомнение, но и былое озлобление против всех властей, вплоть до царской особы, и просыпались, с одной стороны, симпатия к террористам, а с другой – сознание или, скорей, чувство некоторой своей гражданской виновности перед «станом погибающих за великое дело любви». Желая как-нибудь ослабить эти гражданский угрызения, Павел Николаевич тайно жертвовал деньги на политический «Красный Крест». А случалось и так, что он изливал свое гражданское возмущение в злобной антиправительственной статейке за подписью «Здравомыслящего» и направлял ее через служившего, по его же протекции, в земской управе неблагонадежного интеллигента в заграничную подпольную газетку. Ни в мужика, ни в близкую революцию Павел Николаевич уже не верил.
Пройденный полным молчанием со стороны культурного общества и явным возмущением народных масс призыв революционеров к перевороту после убийства царя-освободителя и ползавшие среди крестьян слухи, что царя убили дворяне за то, что он освободил народ от барской крепости, окончательно убедили Павла Николаевича в том, что избранная им дорога – единственная ведущая к цели. Однако и не веря в революцию, он продолжал считать революционеров героями и помогал им отчасти из чувства злобы и мести, а отчасти во спасение души и в утешение угрызений гражданской совести. Он говорил часто:
– В сущности, все дороги ведут в Царствие Божие. Толцыте и отворится!
Хотя террор он считал теперь не только бесполезным, но и вредным, но о героях 1 марта всегда говорил с благоговением, как о святых мучениках за великую идею, и хранил в потайном месте библиотеки в Никудышевке портрет Софьи Перовской, завезенный братом Дмитрием в деревню из Петербурга.
Но все-таки с течением лет эта революционная малярия, полученная им во младости, ослабевала: приступы самоугрызений становились все более редкими и менее продолжительными. Полное выздоровление наступило после того, как Павел Николаевич был избран в члены губернской земской управы, и это обстоятельство, вопреки ожиданиям всех передовых земцев, не встретило протеста со стороны губернатора. Это было принято им как обоюдный компромисс и перемирие. Это обязывало. Чувствуя на своих плечах значительную общественную ношу, надо было идти осторожно и не спотыкаться политически, оберегать земство, это единственное убежище русской гражданственности от нависшей над ним в новое царствование опасности.
Конечно, как большинство русской передовой интеллигенции, Павел Николаевич был в тайниках души своей врагом самодержавия, но юные мечты о прекрасной принцессе Республике давно уже утратил, заменив их деловым устремлением к конституции, со всеми политическими свободами.
Однако времена были таковы, что и о конституции в лучшем случае надо было говорить шепотом, а всего лучше совсем не говорить, а только думать.
Убежденный в том, что народная темнота и невежество являются главным оплотом «самодержавного кулака», Павел Николаевич и направил свою деятельность в это больное место. Он взял в свои руки все школьное дело в губернии, променяв «Золотую грамоту» на самую простую грамотность. Пусть и на этом пути власть на каждом шагу сует палки в колеса, – «птичка по зернышку клюет, да сыта бывает!» И он клевал…
Положение члена губернской земской управы обязывало Павла Николаевича поддерживать приятные отношения со всеми высшими представителями правительственной власти в губернии, гражданской и духовной.
Ничего не поделаешь: приходилось прятать свою наследственную брезгливость даже к жандармам и полиции в карман, приятно улыбаться, когда хотелось… резко оборвать, и вообще пришлось пользоваться языком, чтобы скрывать свои подлинные мысли и чувства. Этого требовали интересы земского благополучия и успехи земских начинаний: «ласковый теленок двух маток сосет!»…
Младшие братья Кудышевы, страстный темпераментный Дмитрий и тихий и глубокий, кроткий и ласковый Григорий, оба студенты Петербургского университета, первый юрист, а второй – математик, захваченные, как и большинство молодежи того времени, деспотическим императивом общечеловеческих идеалов и возжаждавшие «Правды и Справедливости» без всяких рамок места, времени и пространства, с гордым презрением отвергали «большую дорогу» старшего брата. Они оба находили, что эта дорога ведет не в «Царствие Божие» на земле, а в царство торжествующего на земле зла и насилия, не в царство «братства, равенства и свободы», а к закреплению рабства капиталистического. Оба брата начисто отвергали всякую действительность современного государства, говоря, что все человеческие отношения должны быть в корне перестроены, ибо всякий ремонт, а в том числе и тот, которым занимается в земстве Павел Николаевич, только задерживает естественное крушение никуда не годной постройки.
Младшие братья презрительно произносили слово «либерал», к лагерю которых причисляли Павла Николаевича, а резкий Дмитрий однажды в глаза ему сказал:
– Вы, либералы, готовы продать Царствие Божие за полфунта вареной колбасы…
– Колбасы? Что ты хочешь этим сказать?
– Ну, не колбасы, так за полфунта куцей конституции!
Павел Николаевич на Дмитрия не обиделся. Он радостно улыбнулся ему в лицо: ведь и сам он был когда-то вот таким же пылким и убежденным, таким же радикальным и непреклонным мировым бунтарем, как Дмитрий! Молодая кровь, как молодое вино, бродит, пенится, бурлит… И блажен, кто смолоду был молод!
– Я, Митя, не либерал, а член партии здравого смысла, – добродушно пошутил Павел Николаевич.
– Знаем мы этот «здравый смысл…» – прошептал Григорий.
– Я не знал, что вы так враждебны здравому смыслу.
Это было в ту пору, когда только что поженившийся и бесконечно счастливый Павел Николаевич готов был обнять весь мир, включительно со всеми ретроградами и даже анархистами, когда его не обижали и не раздражали никакие колкости братьев по адресу либералов и никакие абсурды жизни, ни практические, ни идеологические. Но устоялась взбаламученная счастьем найденной любви душа, и началась братская словесная междоусобица.
Глава V
«Да, были схватки боевые!» Случалось, на всю ночь, до солнечного восхода.
Обыкновенно задирали младшие. Точь-в-точь как бывало когда-то на Руси при кулачных боях. Бои большей частью происходили в библиотечной комнате, где все сходились посидеть и почитать после ужина журналы и газеты.
Сперва младшие подзадоривали старшего. Вычитает один какую-нибудь новость или просто фразу, которой можно пырнуть ненавистного либерала, и начинает, как бы игнорируя присутствие Павла Николаевича, говорить о ней с другим, пока попадающие в огород Павла Николаевича камешки не заставят его огрызнуться. Ну а тогда оба младших разом накинутся на старшего, и пошла перепалка!
Павел Николаевич был более начитан, более находчив и остроумен, богат опытом жизни и ее логикой и быстро ставил одного из врагов в глупое логическое положение. И вот, не одержав еще победы над врагом, союзники, желая спасти положение, начинали спорить между собою, с петушиным задором наскакивая друг на друга; а тогда старший атаковал уже обоих. Начиналась общая словесная свалка, в которой было уже трудно разобраться, кто кому друг, а кто кому – враг! Среди глубокой ночи поднимался такой шум и крик в библиотеке, что спавший на дворе в сарае дворовый мужик-караульщик просыпался и крался к раскрытым окнам поглядеть: никак господа дерутся?
Подходил, подсматривал и убеждался, что не дерутся, а только ругаются. Думал: «Чудны дела Твои, Господи! И чего они все делят промежду собой?»
Просыпалась и старуха мать. Зажигала свечку, накидывала халат и, сунув ноги в мягкие туфли, спускалась с антресолей. Ведь светает уже, а они все еще спорят! Снизу доносился крик в три глотки. Мать прислушивалась и ловила в этом шумном трио голоса всех трех братьев, даже голос младшего, Гришеньки, своего любимца.
– Ну, и Гришу испортили! Тоже беснуется, – шептала она и направлялась к библиотеке.
В детстве Григорий был тих, скромен, молчалив и застенчив. Именно за этот мягкий женственный характер его и называли в семье Иосифом Прекрасным. А вот теперь и он стал впутываться. Старуха подходила к двери и приотворяла ее:
– Господа Кудышевы! Когда же этому будет конец? Надо же людям спокой дать! Точно на мельнице живешь. И как только у вас языки не отвалятся?
– Разве наверху слышно?
– Да вы так кричите, что в Симбирске, поди, слышно. Прошу прекратить!
– Хорошо. Сейчас расходимся, мама…
Думая, что мать ушла, братья возобновляли бой, оставшийся нерешеным, но сперва шепотом. Разойтись не было сил. А мать стояла за закрытой дверью и прислушивалась. Ловила сонным ухом слова: «правда Божия», «правда-истина», «правда-справедливость» – разводила руками: «Правда заела!» – шептала, покачивая головой, и, постучав в дверь, со вздохом ползла на антресоли в свою спальню, где все осталось так, как было в счастливые времена: и опустевшая кровать покойного Коли, и две подушки с думкой, и знакомое одеяло. Словно и не умирал вовсе старик Кудышев, а только уехал ненадолго в Симбирск по хозяйственным делам. И Анна Михайловна погружалась в воспоминания о покойном муже, думала о своем одиночестве, о детях… Ох, уж эта «правда!» Отца заела, а теперь и до детей добралась… Эх, Коленька! Кабы воздержался – не дал оплеухи жандармскому полковнику, так, может быть, и сейчас жив был и лежал бы вот тут, рядом… Вот она, проклятая «правда» ваша… И Гришеньку в нее Дмитрий впутал!
Он в родимых лесах на врага подберет
Здоровее и толще дубину!
И все под врагом разумели в общем не некое отвлеченное зло и неправду, в которых тонет человечество, а, так сказать, по домашности, министров, губернаторов, исправников, становых, жандармов и вообще всяческое начальство, предержащими властями над ними поставленное. И, конечно, уже никак не мог рассчитывать на «дубину» ни один из присутствовавших печальников народа, особенно сам хозяин, Кудышев, когда-то во младости побывавший в тюрьмах в роли политического преступника, а теперь неустанно сеявший в качестве земца на ниве народной только «разумное, доброе, вечное». Все они считали себя вправе ждать от народа только «сердечного спасибо», ибо одни лечили, другие просвещали, третьи строили мосты и дороги, страховали от пожаров и градобитий, творили правосудие и пр., и пр.
Глава III
Хотя окрестные мужики и бабы продолжали называть владельцев Никудышевки «барами» или «господами», но, в сущности, бары и господа здесь кончились со смертью старого барина, мужа Анны Михайловны. Можно сказать, что покойный Николай Николаевич Кудышев был последним барином в Никудышевке. Помесь крепостника с вольтерьянцем, самодура с сентиментальным мечтателем, одинаково способного как к рыцарскому поступку, так и к варварскому своеволию, – таков был отец Павла Николаевича. В этом последнем никудышевском барине как-то ухитрялись сожительствовать подлинный европеизм с самой подлинной азиатчиной. Мужики его боялись, но любили. За что? Если иной раз и поколотит, то, во-первых, всегда за дело, а во-вторых, непременно вознаградит и щедро. Однажды поймал в лесу порубщика и круто с ним расправился: выбил собственноручно три зуба и приказал выпороть. Потом стал мучиться угрызениями совести просвещенного помещика и, вызвавши пострадавшего мужика, просил все забыть и получить за каждый выбитый зуб по пяти рублей. В числе его благородных поступков следует поставить упомянутый уже выше подарок своим только что раскрепощенным мужикам в 100 десятин земли с лесом, за что он не только жестоко пострадал, а, можно сказать, поплатился жизнью, совершив еще один подвиг. О последнем рассказывали так. Отставленный от предводительства, Николай Николаевич Кудышев с той поры подвергался всяческим гонениям от властей. А тут еще помог этому делу и старший сынок, Павел: будучи студентом-первокурсником, Павел снюхался с народниками-революционерами и попал в дело бунтарей, затеявших поднять народ против помещиков с помощью подложного царского манифеста – «Золотой грамоты». Хотя революционная связь Павла с бунтарями оказалась второстепенной и непосредственного участия в Чигиринском бунте он не принимал, но в тюрьме все-таки посидел. Местные же жандармские власти, с которыми Николай Николаевич всегда вздорил, воспользовались случаем и произвели скандал на всю губернию: приехали в Никудышевку, перерыли все в доме, обыскали все постройки, чердаки и подвалы и нашли-таки какие-то ящики с разным хламом и с непонятными предметами, в которых заподозрили части не то типографского станка, не то литографии. Все эти предметы, а также много книг из библиотеки, бумаги и письма, найденные в кабинете и шкафах с разной рухлядью, изъяли, опечатали и увезли в Симбирск вместе с Николаем Николаевичем. Всполошилась не только вся губернская власть, все дворянство и земство, но даже радостно вздрогнули центральные полицейские учреждения. Попался наконец! Однако вся эта шумная история очень быстро лопнула, как мыльный пузырь, выдутый необузданной фантазией престарелого симбирского жандармского полковника. Хотя в бумагах и были обнаружены два письма страшного тогда Герцена, но по содержанию своему эти вещественные доказательства говорили в пользу арестованного, ибо письма Герцена были ответами на раздраженную ругань Николая Николаевича по адресу «Колокола», из которых явствовало, что дворянин Кудышев совершенно отвергает всю подпольную работу Герцена. Что же касается остатков типографского станка или литографии, то все это оказалось остатками ткацких и красильно-набивных инструментов, уцелевших еще от крепостной мастерской. Хотя все кончилось как будто бы и благополучно, а Николай Николаевич вернулся в Никудышевку со славой победителя, но торжество его было весьма кратко и закончилось трагически. Объясняясь с приехавшим к нему в имение «с извинением» жандармским полковником, Николай Николаевич так вскипел гневом гражданского достоинства, что не воздержался и ответил на какую-то неуместную шуточку полковника плюхой, после чего сам же и упал и, не придя в сознание, часа через два скончался от кровоизлияния в мозг. На похороны почившего со славой героя съехалось множество передовых людей со всей губернии, привезли много венков с вызывающими надписями на лентах, как то: «Рыцарю духа», «Мужу чести и справедливости», «Положившему душу за други своя» и т. п. Была борьба за эти надписи с прибывшими для порядка властями, было и самопожертвование со стороны публики. Молодой земский врач, недавно еще соскочивший со студенческой скамейки и продолжавший носить косоворотку и длинные волосы, произнес дерзкое надгробное слово, которое заканчивалось так:
– Твоя благородная рука поднялась и сделала соответствующий историческому моменту жест. Этим благородным жестом ты как бы крикнул всем нам перед смертью: «Довольно рабского молчания и терпения! Очнитесь и громко кричите: “Мы выросли! Нам надоело быть рабами и обывателями. Мы чувствуем себя гражданами! Спасибо, честный благородный гражданин земли русской! Мы тебя услышали. Спи спокойно и sit tibi terra levis…”»
Николая Николаевича похоронили в фамильном склепе, и он спал там спокойным сном вечности, молодой же человек, земский врач, надолго утратил спокойствие, ибо его в 24 часа выслали в Вологодскую губернию и отдали под надзор полиции.
Так, с большим шумом и треском, ушел из жизни последний никудышевский барин, надолго запечатлев свою личность в памяти властей и передовой интеллигенции всей Симбирской губернии. Что же касается мужиков Никудышевки и ее окрестностей, то они так и не оценили гражданских заслуг покойного барина. После обыска в имении, ареста и освобождения барина по всем окрестным деревням и селам поползли слухи, будто в никудышевской усадьбе начальство открыло фабрикацию фальшивых ассигнаций, но что никудышевские господа откупились настоящими царскими деньгами и потому барина выпустили и дело замяли. Долго потом деревенские бабы боялись барских денег и всякая ассигнация из барского дома внушала сомнения и заставляла советоваться со стариками:
– Погляди-ка, правильная ли! Пес их знает: сказывают, что они сами деньги-то делают…
Прошел год. Мирская молва, что морская волна: пошумела и успокоилась… И семейная скорбь улеглась, притихла. Однако не все умирает с человеком: на юных душах осиротевших детей, один из которых был уже студентом, а два других еще гимназистами, остался неизгладимый след возмущения против… чего? Они и сами не могли бы назвать объекта своего возмущения. Обыск, арест отца, ни в чем не повинного, смерть его, и за всем этим как некий символ: жандарм, полиция, губернатор. Бедный папа ушел от них в ореоле героя и мученика за какую-то поруганную правду и справедливость. Если старший, Павел, уже вкусил от прямолинейной социалистической мудрости и возмущение его направлялось по готовому руслу, то гимназисты были пока еще никакими политическими злобами нетронуты. История с отцом, его смерть, похороны, венки и надмогильные речи, особенно же отказ властей отпустить из тюрьмы на время похорон старшего брата, столкнули их с путей политического неведения и направили их душевное тяготение к тем мыслям и к тем людям, за которые и которых жандармы преследовали… Старшего, Павла, жизнь очень скоро отрезвила от крайних утопий. Оторвавши от всяких прекрасных идеологических призраков, жизнь ткнула его лицом в самую подлинную русскую действительность. Попытка поднять всероссийский мужицкий бунт с помощью царской грамоты кончилась полным крахом, и за нее жестоко пострадали мечтательные обманщики. Только благодаря случайности Павел отделался годом тюрьмы и исключением из университета, с отдачею его, за несовершеннолетием, на поруки матери. Павел надолго засел в имении и должен был как старший мужчина в доме помогать матери распутывать все запутанные узлы финансовой стороны имения и с головою уйти в повседневные кропотливые мелочи сельского хозяйства и деревенского быта. С ранней весны и до глубокой осени ему приходилось пребывать в непрестанном общении с землей, с деревней и мужиком, вплотную подходить к самым устоям народнической веры, – и ее воздушные замки очень скоро рассыпались как карточные домики от дуновения ветра. Эти замки оказались такими же фальшивыми, подложными, какой была «Золотая грамота», за которую он провел целый год в одиночном заключении подлинного, а не воздушного замка. Началась переоценка всех ценностей, приобретенных в нелегальных кружках, где им было получено, так сказать, первоначальное революционное образование. Кстати, под руками оказалась огромная библиотека предков, с креслом, на котором, по семейным преданиям, случалось сиживать историку Карамзину.
Зимами, когда Никудышевку заносило глубокими снегами, а вечера становились бесконечно долгими и беззвучными, Павел Николаевич забирался в этот деревенский склеп книжной мудрости, которую до сей поры с таким аппетитом грызли мыши и крысы, и без кружковых указок запоем читал книги по всем отраслям человеческого знания, стремясь все узнать и все понять. Так прошло три с лишком года. Надзор и поруки кончились. Начальство напомнило об исполнении воинской повинности. Отбывал ее в качестве вольноопределяющегося в ближайшем уездном городке Алатыре и здесь в местном клубе на семейно-танцевальном вечере на Святках познакомился и со всем пылом земляного человека, полного здоровья и неистощимой энергии, влюбился в «тургеневскую девушку», дочь уездного предводителя дворянства, Елену Владимировну Замураеву, отвечавшую ему несомненной симпатией и поощрением, несмотря на то, что дворяне Замураевы, закоренелые столпы старины, находились в постоянной вражде с либералами Кудышевыми. Вопреки долгой неприязни этих местных Монтекки и Капулетти, симбирские Ромео и Джульетта спустя год повенчались, и в Никудышевке появилась прекрасная «молодая барыня». Прожили в имении год, и вдруг оба заскучали: потянуло в суету города, к его огням, к театру, к музыке, к танцам. Примирение и родство с генералом Замураевым сильно подняло шансы бывшего «политического преступника» среди местного дворянства: сперва попал в гласные уездного земства, потом губернского и скоро сделался членом губернской земской управы и надолго обосновался в городе Симбирске. Земская деятельность пришлась ему по душе, но зато оторвала от Никудышевки и отчего дома. Никудышевка очутилась снова на руках «старой барыни» и плутоватого хохла, управляющего. Братья, Дмитрий и Григорий, теперь уже студенты, приезжали из Петербурга только на летние каникулы и не проявляли решительно никакой не только склонности, но даже простой любознательности к сельскому хозяйству и к собственному имению. Когда старший, Павел Николаевич, приезжал на время летнего отпуска с молодой женой погостить в Никудышевку и здесь встречался с младшими братьями, студентами, у обеих барынь, молодой и старой, начинались мигрени от бесконечных их споров…
Глава IV
Дети одной семьи, рожденные на протяжении менее одного десятилетия, братья казались людьми трех взаимно отрицающих друг друга поколений…
Хотя над всеми троими почил, так сказать, дух интеллигентского народничества и все трое принадлежали к секте искателей «Царства Божьего» на земле, но в путях и средствах они совершенно расходились друг с другом…
«Золотая грамота» столкнула Павла Николаевича с путей революционного народничества с его бунтарством в море народной темноты и невежества, партийная занавесочка спала с глаз его, и он поторопился выйти на большую дорогу легальной общественной деятельности со всеми ее неизбежными компромиссами постепенных достижений. Так понятна стала ему мудрость русской пословицы «тише едешь, дальше будешь». Как человек, на своей шкуре познавший мужика, Павел Николаевич говорил:
– Прав Гоголь: хороша русская тройка! Но все-таки на ней больше двенадцати верст в час не ускачешь, а потому нам так далеко еще до «Царствия Божьего», что некуда торопиться!
Павел Николаевич отвергал путь террора и немедленных переворотов не как моралист, а исключительно – по его собственному выражению – как член партии здравого смысла и логики. Выйдя на большую дорогу, он не сразу пошел твердой походкой уверенного путешественника. На первых порах он частенько-таки оглядывался, ибо душа его не сразу пришла в то гармоническое состояние, которое дается уверенностью в самом себе и в своей работе. Где-то в глубине его интеллигентского существа еще долго не умирал «кающийся дворянин» с его «критически мыслящей» личностью и с «долгом перед народом». Иногда после острых столкновений с государственной властью земского самоуправления, почти всегда кончавшихся поражением последнего, у Павла Николаевича опускались руки, пропадала энергия и самая вера в избранное дело. Вот в такие-то моменты он и оглядывался. Воскресало порой не только сомнение, но и былое озлобление против всех властей, вплоть до царской особы, и просыпались, с одной стороны, симпатия к террористам, а с другой – сознание или, скорей, чувство некоторой своей гражданской виновности перед «станом погибающих за великое дело любви». Желая как-нибудь ослабить эти гражданский угрызения, Павел Николаевич тайно жертвовал деньги на политический «Красный Крест». А случалось и так, что он изливал свое гражданское возмущение в злобной антиправительственной статейке за подписью «Здравомыслящего» и направлял ее через служившего, по его же протекции, в земской управе неблагонадежного интеллигента в заграничную подпольную газетку. Ни в мужика, ни в близкую революцию Павел Николаевич уже не верил.
Пройденный полным молчанием со стороны культурного общества и явным возмущением народных масс призыв революционеров к перевороту после убийства царя-освободителя и ползавшие среди крестьян слухи, что царя убили дворяне за то, что он освободил народ от барской крепости, окончательно убедили Павла Николаевича в том, что избранная им дорога – единственная ведущая к цели. Однако и не веря в революцию, он продолжал считать революционеров героями и помогал им отчасти из чувства злобы и мести, а отчасти во спасение души и в утешение угрызений гражданской совести. Он говорил часто:
– В сущности, все дороги ведут в Царствие Божие. Толцыте и отворится!
Хотя террор он считал теперь не только бесполезным, но и вредным, но о героях 1 марта всегда говорил с благоговением, как о святых мучениках за великую идею, и хранил в потайном месте библиотеки в Никудышевке портрет Софьи Перовской, завезенный братом Дмитрием в деревню из Петербурга.
Но все-таки с течением лет эта революционная малярия, полученная им во младости, ослабевала: приступы самоугрызений становились все более редкими и менее продолжительными. Полное выздоровление наступило после того, как Павел Николаевич был избран в члены губернской земской управы, и это обстоятельство, вопреки ожиданиям всех передовых земцев, не встретило протеста со стороны губернатора. Это было принято им как обоюдный компромисс и перемирие. Это обязывало. Чувствуя на своих плечах значительную общественную ношу, надо было идти осторожно и не спотыкаться политически, оберегать земство, это единственное убежище русской гражданственности от нависшей над ним в новое царствование опасности.
Конечно, как большинство русской передовой интеллигенции, Павел Николаевич был в тайниках души своей врагом самодержавия, но юные мечты о прекрасной принцессе Республике давно уже утратил, заменив их деловым устремлением к конституции, со всеми политическими свободами.
Однако времена были таковы, что и о конституции в лучшем случае надо было говорить шепотом, а всего лучше совсем не говорить, а только думать.
Убежденный в том, что народная темнота и невежество являются главным оплотом «самодержавного кулака», Павел Николаевич и направил свою деятельность в это больное место. Он взял в свои руки все школьное дело в губернии, променяв «Золотую грамоту» на самую простую грамотность. Пусть и на этом пути власть на каждом шагу сует палки в колеса, – «птичка по зернышку клюет, да сыта бывает!» И он клевал…
Положение члена губернской земской управы обязывало Павла Николаевича поддерживать приятные отношения со всеми высшими представителями правительственной власти в губернии, гражданской и духовной.
Ничего не поделаешь: приходилось прятать свою наследственную брезгливость даже к жандармам и полиции в карман, приятно улыбаться, когда хотелось… резко оборвать, и вообще пришлось пользоваться языком, чтобы скрывать свои подлинные мысли и чувства. Этого требовали интересы земского благополучия и успехи земских начинаний: «ласковый теленок двух маток сосет!»…
Младшие братья Кудышевы, страстный темпераментный Дмитрий и тихий и глубокий, кроткий и ласковый Григорий, оба студенты Петербургского университета, первый юрист, а второй – математик, захваченные, как и большинство молодежи того времени, деспотическим императивом общечеловеческих идеалов и возжаждавшие «Правды и Справедливости» без всяких рамок места, времени и пространства, с гордым презрением отвергали «большую дорогу» старшего брата. Они оба находили, что эта дорога ведет не в «Царствие Божие» на земле, а в царство торжествующего на земле зла и насилия, не в царство «братства, равенства и свободы», а к закреплению рабства капиталистического. Оба брата начисто отвергали всякую действительность современного государства, говоря, что все человеческие отношения должны быть в корне перестроены, ибо всякий ремонт, а в том числе и тот, которым занимается в земстве Павел Николаевич, только задерживает естественное крушение никуда не годной постройки.
Младшие братья презрительно произносили слово «либерал», к лагерю которых причисляли Павла Николаевича, а резкий Дмитрий однажды в глаза ему сказал:
– Вы, либералы, готовы продать Царствие Божие за полфунта вареной колбасы…
– Колбасы? Что ты хочешь этим сказать?
– Ну, не колбасы, так за полфунта куцей конституции!
Павел Николаевич на Дмитрия не обиделся. Он радостно улыбнулся ему в лицо: ведь и сам он был когда-то вот таким же пылким и убежденным, таким же радикальным и непреклонным мировым бунтарем, как Дмитрий! Молодая кровь, как молодое вино, бродит, пенится, бурлит… И блажен, кто смолоду был молод!
– Я, Митя, не либерал, а член партии здравого смысла, – добродушно пошутил Павел Николаевич.
– Знаем мы этот «здравый смысл…» – прошептал Григорий.
– Я не знал, что вы так враждебны здравому смыслу.
Это было в ту пору, когда только что поженившийся и бесконечно счастливый Павел Николаевич готов был обнять весь мир, включительно со всеми ретроградами и даже анархистами, когда его не обижали и не раздражали никакие колкости братьев по адресу либералов и никакие абсурды жизни, ни практические, ни идеологические. Но устоялась взбаламученная счастьем найденной любви душа, и началась братская словесная междоусобица.
Глава V
«Да, были схватки боевые!» Случалось, на всю ночь, до солнечного восхода.
Обыкновенно задирали младшие. Точь-в-точь как бывало когда-то на Руси при кулачных боях. Бои большей частью происходили в библиотечной комнате, где все сходились посидеть и почитать после ужина журналы и газеты.
Сперва младшие подзадоривали старшего. Вычитает один какую-нибудь новость или просто фразу, которой можно пырнуть ненавистного либерала, и начинает, как бы игнорируя присутствие Павла Николаевича, говорить о ней с другим, пока попадающие в огород Павла Николаевича камешки не заставят его огрызнуться. Ну а тогда оба младших разом накинутся на старшего, и пошла перепалка!
Павел Николаевич был более начитан, более находчив и остроумен, богат опытом жизни и ее логикой и быстро ставил одного из врагов в глупое логическое положение. И вот, не одержав еще победы над врагом, союзники, желая спасти положение, начинали спорить между собою, с петушиным задором наскакивая друг на друга; а тогда старший атаковал уже обоих. Начиналась общая словесная свалка, в которой было уже трудно разобраться, кто кому друг, а кто кому – враг! Среди глубокой ночи поднимался такой шум и крик в библиотеке, что спавший на дворе в сарае дворовый мужик-караульщик просыпался и крался к раскрытым окнам поглядеть: никак господа дерутся?
Подходил, подсматривал и убеждался, что не дерутся, а только ругаются. Думал: «Чудны дела Твои, Господи! И чего они все делят промежду собой?»
Просыпалась и старуха мать. Зажигала свечку, накидывала халат и, сунув ноги в мягкие туфли, спускалась с антресолей. Ведь светает уже, а они все еще спорят! Снизу доносился крик в три глотки. Мать прислушивалась и ловила в этом шумном трио голоса всех трех братьев, даже голос младшего, Гришеньки, своего любимца.
– Ну, и Гришу испортили! Тоже беснуется, – шептала она и направлялась к библиотеке.
В детстве Григорий был тих, скромен, молчалив и застенчив. Именно за этот мягкий женственный характер его и называли в семье Иосифом Прекрасным. А вот теперь и он стал впутываться. Старуха подходила к двери и приотворяла ее:
– Господа Кудышевы! Когда же этому будет конец? Надо же людям спокой дать! Точно на мельнице живешь. И как только у вас языки не отвалятся?
– Разве наверху слышно?
– Да вы так кричите, что в Симбирске, поди, слышно. Прошу прекратить!
– Хорошо. Сейчас расходимся, мама…
Думая, что мать ушла, братья возобновляли бой, оставшийся нерешеным, но сперва шепотом. Разойтись не было сил. А мать стояла за закрытой дверью и прислушивалась. Ловила сонным ухом слова: «правда Божия», «правда-истина», «правда-справедливость» – разводила руками: «Правда заела!» – шептала, покачивая головой, и, постучав в дверь, со вздохом ползла на антресоли в свою спальню, где все осталось так, как было в счастливые времена: и опустевшая кровать покойного Коли, и две подушки с думкой, и знакомое одеяло. Словно и не умирал вовсе старик Кудышев, а только уехал ненадолго в Симбирск по хозяйственным делам. И Анна Михайловна погружалась в воспоминания о покойном муже, думала о своем одиночестве, о детях… Ох, уж эта «правда!» Отца заела, а теперь и до детей добралась… Эх, Коленька! Кабы воздержался – не дал оплеухи жандармскому полковнику, так, может быть, и сейчас жив был и лежал бы вот тут, рядом… Вот она, проклятая «правда» ваша… И Гришеньку в нее Дмитрий впутал!
Другие электронные книги автора Евгений Николаевич Чириков
Другие аудиокниги автора Евгений Николаевич Чириков
Юность




 0
0
Зверь из бездны




 4.5
4.5