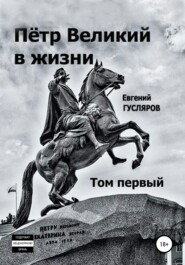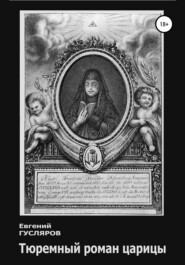По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Самоубийство Пушкина. Том первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Выстрелив, снова упал.
Дантес тоже упал, но его сбила с ног только сильная контузия, сам удар пули.
Придя в себя, Пушкин первым делом спросил у д’Аршиака:
– Убил я его?
– Нет, – ответил тот, – вы его ранили.
Последний свет погас во взоре Пушкина. Лицо его вновь стало равнодушным. Какая-то перемена в его внутреннем состоянии. От убийственного азарта и нетерпения не осталось и следа.
– Странно, – сказал он, – я думал, что мне доставит удовольствие убить его, но я чувствую теперь, что нет… Впрочем, все равно. Как только я оправлюсь от раны, мы начнем снова…
Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы д’Аршиак находил «parfite» (превосходным).
Условия жизни не давали ему возможности и простора жить героем; зато, по свидетельству всех близких Пушкина, он умер геройски, и своею смертью вселил в друзей своих благоговение к своей памяти. Так подытожит внешнюю сторону жизни Пушкина князь П.П. Вяземский.
Петербург. Дом Волконского на Мойке, где снимал квартиру Пушкин. 27 января. Около шести часов вечера.
Теперь уже стало темно. Карета скоро прокралась по улице тёмной призрачной тенью, гася по пути на краткое время золотые пунктиры некстати весёлых петербургских окон. Карета торжественная, как из мрачной сказки. Её на всякий случай прислал к месту поединка нидерландский посланник барон Геккерен. Выпал именно тот непредсказуемый «всякий случай», которого более всего хотел барон…
Квартира Пушкина на первом этаже. Данзас стремителен, но потерян. Стукнув висячим молотком в двери, силы не рассчитал, шнурок порвался. Данзас мгновение, не понимая, смотрит на оторвавшийся молоток, потом швыряет его в мятежную снеговую круговерть. Стучит кулаком.
Дверь отворяется. Камердинер Никита лицом, густо утыканным короткой серебряной проволокой, пытается изобразить надменное неудовольствие
– Беда, – коротко говорит Данзас.
Надменность с лица Никиты мгновенно уходит.
Он бежит к карете. Вдвоём толкутся у раскрытой дверцы.
– Погоди, барин, – говорит Никита, —тут ловчее одному…
Берёт Пушкина на руки. Бледное неживое лицо Пушкина рядом с коричневым, будто вытесанным из подёрнутого мхом-лишайником дикого плитняка лицом Никиты.
– Грустно тебе нести меня? – тихо и горестно спрашивает Пушкин.
– Молчи, барин, вес-то из тебя весь вышел в энти дни, – не понимает вопроса Никита. Трогательный и торжественный вид принимает его каменное лицо.
На первой же ступеньке он оступается, теряет равновесие.
– Господи, Исусе Христе, спаси и помилуй, – шепчет тихо.
Так идут они на крыльцо, по лестнице, в кабинет. Мимо окаменелой прислуги.
Пушкина укладывают на диван, меняют кровавое бельё, укутывают в одеяла. Сцепив зубы, он сам надевает все новое.
– Не пускайте жену, она, бедная, испугается…
Данзас, между тем, уже воротился с доктором Шольцем и доктором Задлером. Когда они входят в кабинет – с тросточками, саквояжами и немецкой важностью, Пушкин слабым движением руки предлагает лишним выйти. Данзас остаётся с докторами. Доктор Шольц попал сюда не по делу, поскольку оказался акушером. Во все время осмотра он только и делает, что усиленно сохраняет ту представительность, с которой вошёл.
Все, что происходит теперь, для Пушкина имеет значение черезвычайное. Всякое мужество имеет границы. Вопросы, которые ему надо задать, имеют смысл страшный… Человек подходит к тому пределу, который делает его наиболее естественным, жестоким образом обнажает его суть. И слабость, и мужество, нищета и роскошь духа являются тут в крайних своих пределах. Страшно, страшно узнавать окончательные ответы…
По лицу Пушкина трудно видеть, каково его душе. Жёлтые, как бы распухшие и заржавевшие глазные яблоки медленно и тяжко поворачиваются в горячих ложах своих. Кажется, что глазам этим больно двигаться под воспалёнными сухими наждачными веками. Руки его, ставшие ещё более изящными, как бы из живого мрамора сделанные, живут своей отдельной жизнью. Пальцы перебирают и разглаживают складки белоснежного белья, приближаются к лицу, утопают в больших, вспыхивающих серебряными искрами бакенбардах.
Доктор Задлер поставил компресс и, не зная, как поступить дальше, мнётся в томлении и нерешительности.
– Что вы думаете о моей ране? Вы знаете, о чём я спрашиваю? Надеюсь, вы понимаете, что мне теперь нужна только правда… Не бойтесь…
Доктор Задлер, надламывая русские слова тесным для них немецким произношением, отвечает кратко и поспешно, и в этом уже есть знак безнадёжности.
– Не могу вам скрыть, рана опасная.
– Скажите мне, смертельная?
– Считаю долгом своим не утаить и того. – И будто спохватившись. – Но услышим ещё мнение Арендта и Саломона, за коими послано…
Пушкин молчит, прикрыв глаза. В нитку сжимает чёрные губы. Перемалывает в зубах нечто невидимое, несуществующее. И уже про себя, перейдя на французский:
– Je vous remecie, vous avez agi en hommete homme envers moi (Я вас благодарю, вы поступили со мной как честный человек).
Замолчал, потёр рукою лоб, добавил. Это уже точно для себя:
– Il faut que j`frrangt ma vfisjn… (Мне нужно привести в порядок мои дела…)
Прибывает Арендт, мелкого еврейского типа старичок, необычайно достойный и обходительный. Лет через пятнадцать после смерти Пушкина будет присвоено ему некое почётное звание «благодушного врача». Если полистать теперь словарь Даля, то прежнее «благодушие» откроется нам в несколько ином значении, чем привыкли мы понимать – «доброта души, любовные свойства души… расположение к общему благу…». Вот это-то благодушие разлито во всём его облике. Странным образом проявилось его благодушие в деле с Пушкиным. Из всех средств, которые употребил личный медик императора – были только советы прикладывать к больному месту куски льда.
Арендт входит в кабинет Пушкина как бы в маске, с неподвижною гримасой доверительной и всепонимающей улыбки.
– Вот и Арендт, – говорит с видимым облегчением Задлер. – Николай Фёдорович, – произносит он со значением, как бы давая знать Пушкину, что вот теперь-то всё и определится совершенно окончательно и точно.
Пушкин, однако, больше не повторяет ожидаемого вопроса.
– Я все знаю уже, доктор, – говорит он, – у меня к вам другое дело. Я знаю, вы увидите государя, просите его простить… Данзаса. Попросите за него, он мне брат. Он ни в чём не виновен. Я схватил его на улице, он не мог мне отказать… Попросите и за меня…
Понимающие глаза Арендта, расширенные выпуклыми стеклами очков в золотой оправе, будто в блюдцах плавают от края до края.
– Ну, что ж, я готов. Я обязан доложить Его Величеству… Однако я должен осмотреть рану. Император непременно спросит у меня…
Он осматривает рану молча. Но маска благодушия тут же сползает с его лица.
Пушкин следит за лицом его цепким взглядом и ему ясна эта перемена. Он опускает веки, медленно, как занавес…
…И опять эта яркая вспышка. Красные с золотом далекие тени. И мальчик, пытающийся взлететь, выкрикивающий нечто восторженное, катающий во рту обжигающие слова… Мелькание обрывков и теней постепенно упорядочивается, и мы можем видеть происходящее ясно. Праздник, к которому так упорно тянется больная и тревожная память Пушкина происходит в Царском Селе, в Лицее. Здесь страшная суета сегодня. Шитые золотом мундиры. Лицеисты в парадной форме – синие сюртучки с красными воротником и белые лосины, сияющие полусапоги. Ждут Державина, который для лицеистов, да и для преподавателей, в основном молодых, живое ископаемое, воплощённая история. Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом, при императоре Павле, член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре – министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер. Тут ждут его, однако, не как бывшего царедворца, а как бывшего поэта. Славного стихотворца, почивающего ныне на лаврах.
Особая зала лицея постепенно наполняется царскосельскою публикой, лицеистами, кое-кем из родни, коей, впрочем, мало. Среди почётных – архимандрит Филарет, ректор духовной академии, министр народного просвещения граф Разумовский, попечитель учебного округа Сергей Семенович Уваров, генерал Саблуков, известный тем, что удавленный император Павел прогнал его в роковую ночь с караула. Все это занимает место почётное, за столом, покрытым алым сукном. Начальство лицейское теснится у этого стола сбоку.
Больше всех волнуется сегодня Дельвиг. Он на год старше Пушкина (ему шестнадцать), подслеповат, белобрыс. В разговоре, чтобы определить, как на него реагируют, часто близоруко щурится. Сейчас он на парадной лестнице, в самом начале её. На верху лестницы появляется тоже взволнованный Пушкин. Он с кипой бумаг в правой руке, поминутно заглядывает в них. Шепчет про себя, запоминая…