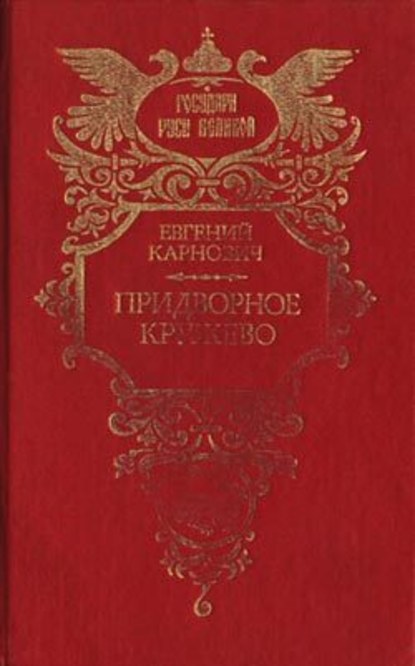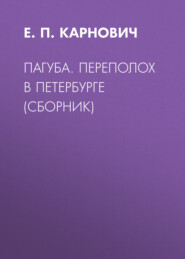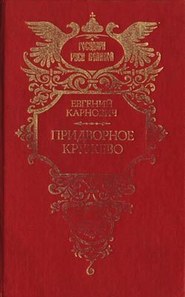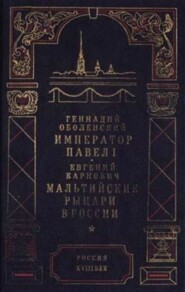По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Смущает меня тут только одно, князь Василий Васильевич, – вмешалась наконец царевна. – При двоевластии один царь и его сторонники смогут осилить другого, и тогда власть осиленного царя, пожалуй, ни во что превратится. Вот хотя бы, примером сказать, что может случиться у нас. Положим, что так или сяк посадим мы Иванушку на царский престол, да какая от того польза будет, если на царстве все-таки Петр Алексеевич останется? Ведь тогда и над Иванушкою Нарышкины силу заберут.
– Ну, нет, царевна, этому не бывать! – почти вскрикнул Голицын, быстро приподнявшись с лавки. – Досталась бы только единожды власть в руки, а уже выпускать ее не годится! Тогда нужно, да и можно будет побороть всех противников!
Говоря это, Голицын горделивым движением вытянул вперед правую руку и слегка помахивал ею то вверх, то вниз, как будто принижал тех, кто захотел бы приподняться перед ним. С сильным биением сердца и со страстным выражением в глазах смотрела царевна на стоявшего перед нею величавого боярина, у которого и в осанке, и в движениях, и во взгляде, и в голосе было что-то обаятельное для нее. В нем, как ей казалось, олицетворились теперь и ум, и твердость, и та самоуверенность, которая дает господство над другими.
– Чем более мирным способом достанется царский престол царевичу Ивану Алексеевичу, – продолжал Голицын, – тем будет лучше для всех. К чему кровавые побоища? Зачем междоусобия? Если раз мы поднимем чернь, то трудно уже будет усмирить ее; придется пустить тогда в дело и казни и пытки, а и те и другие только ожесточат народ против нового государя. Разве мало и теперь стонет людей в застенках? Неужели же еще прибавлять страждущих!..
В продолжение этой речи Милославский слегка откашливался, как будто готовясь возразить Голицыну, и с насмешливою улыбкою посматривал на него.
– Как же, князь Василий Васильевич! Так вот добром с Нарышкиными и поладишь! Дашь им теперь спуска, так потом они тебе за то не дадут его. Отблагодарят они тебя в свое время по чести, – сказал Милославский.
– На то, Иван Михайлович, дал Господь Бог человеку разум, чтобы он сумел справить каждое дело без насильства. Если стрелецкое войско подаст общую челобитную, чтобы быть на царстве государю Ивану Алексеевичу, да сделает это мирным обычаем, так поверь, что несравненно лучше будет. Нарышкины побоятся стрельцов и тем охотнее уступят, что и царь Петр Алексеевич на престоле останется, а там уже можно будет сладить и с ним без кровопролития. Умоляю тебя, боярин, не допускай народного мятежа, при котором не будут отличать правого от виноватого. Вспомни мое зловещее предсказание!
Когда Голицын договаривал последние слова, в терем вошла Родилица, обращавшаяся совершенно свободно как с царевною, так и со всеми близкими к Софье Алексеевне боярами.
– Была я у твоей милости, – заговорила она, кланяясь Милославскому, – да проведала, что ты здесь, так сюда побежала. Совсем ноженьки отбила, в двух слободах перебывала сегодня.
С этими словами она, как бы обессилев, медленно опустилась на пол и села на нем, вытянув вперед ноги.
Неприветливо взглянул Голицын на постельницу. Он присел на лавку и, сложив на коленях ладони, понурил голову.
– Многое множество стрельцов хотят постоять за царевича Ивана Алексеевича и за тебя, царевна, и за весь ваш старший род, да и не из рядовых только стрельцов, а и из чиновных! Меж их полковник Озеров да полуполковник из кормовых иноземцев, как бишь его…
– Цыклер, что ли? – подсказал Милославский.
– Он и есть; да из стрелецких выборных, Борис Федорыч Одинцов, Обросим, как звать по отчеству не знаю, а по прозванию Петров, да Кузьма Григорьич Чермный. Последний куда как отважен, с ним часто я видаюсь, да и у всех других по нескольку раз перебывала. Не с ними, впрочем, веду я особенно речи, а больше все с их бабами, те мужей подбить сумеют. Сказывала я им, чтобы они, Иван Михайлович, пожаловали к тебе завтра в ночную пору, ты с ними лучше столкуешься. Много делают мне они таких запросов, на которые я и ответить не сумею… Сказывали, что пишут челобитную.
Слушая Родилицу, Милославский одобрительно кивал головою.
– Ну, вот видишь, князь Василий Васильевич, дело по твоему желанию направляется. Начинают стрельцы не с мятежа, а с челобитной, а затем, если дело повернется на что иное, так уж не наша в том вина будет. Значит, добром с Нарышкиными поладить не успели.
– Дай-то Господи, чтобы избавились мы от кровавых мятежей, не лежит у меня к ним сердце! – отозвался Голицын.
– В слободах, – принялась опять болтать скороговоркою Родилица, – серчают крепко на царицу Наталью Кирилловну за то, что они Матвеева из ссылки возвращают. «Несдобровать ему, говорят стрельцы: пусть только покажется, разговаривать с ним долго не станем».
– Да и нам-то он не на радость едет, примется по-старому воротить всем, – с досадою промолвил Милославский.
При упоминании о Матвееве царевна нахмурилась. Нахмурился и Голицын.
– Что тут поделаешь? С ним, наверно, и без посторонних подущений стрельцы сами по себе скоро расправятся, у них к нему ненависть большая, – заметил Иван Михайлович. – Ну, скажи теперь, князь Василий Васильевич, статочное ли было бы дело, если бы вдруг стрельцы пошли на Матвеева, а мы за него, врага нашего, вступаться бы вздумали? Ведь это, почитай, все равно что себе самому заранее могилу рыть добровольно.
– Горько сознаться, а приходится сказать, что есть и правда в твоих речах, Иван Михайлович, – печально проговорил Голицын. – Пусть будет, что будет, скажу только и пресветлейшей царевне и тебе, боярин, что в кровопролитии участвовать я не отважусь; на душу грех тяжкий ляжет. Не хочу быть повинен в крови христианской.
– Ну, как знаешь! – проворчал себе под нос Милославский. – А думается мне, что боронить себя от врагов греха никакого нет. Не давать же себя на расправу своим недругам? Приму я все на свою совесть, – добавил он, успокаивая Голицына, – да и царевна ни в чем перед Богом в ответе не явится: все, что будет нужно, сделаю я сам.
– Так и порешим на этом. Пусть Иван Михайлович, как он знает, оберегает честь и здравие благоверного царевича Ивана Алексеевича. Прощайте, бояре, пора мне пойти к царице Наталье Кирилловне. Стараюсь я теперь поступать, чтоб ни в чем меня в подозрение не взяли.
– И разумно делаешь, государыня царевна, – одобрил Милославский.
Милостиво отпустив от себя бояр, Софья крытыми переходами пошла из своего терема к мачехе.
У царицы Натальи Кирилловны собирались также в ту пору по два раза в день на совет бояре, державшие ее сторону, и почти безотлучно находилась при ней вся многочисленная семья Нарышкиных.
Чуяло сердце царицы что-то недоброе; нарышкинские разведчики и соглядатаи шныряли по Москве и приносили из города в царицын терем нерадостные вести. Подумывали сторонники Натальи Кирилловны, как бы захватить главных злоумышленников, но опасно было сделать это: чего доброго, раздражили бы всех еще больше, и стрельцов и народ. Не решаясь пока ни на что, царица и преданные ей бояре с нетерпением поджидали приезда в Москву Артамона Сергеевича Матвеева, твердо надеясь, что он даст им всем разумный совет. Промедление на несколько дней не представляло, по-видимому, особой опасности, так как хотя тревожные слухи и носились по Москве, но не было еще никаких явных признаков, что взрыв уже готов. Да и некому было взяться за дело решительно; среди сторонников царицы Натальи Кирилловны не находилось таких людей, которые отважились бы прямо пойти навстречу опасности; все думали только о том, как бы уклониться от угрожающей беды, а не о том, чтобы предупредить ее неожиданным ударом.
Царевна вошла в горницу царицы, и бывшие там женщины, монахини и приживалки, низко поклонившись ей, вышли, оставив их с глазу на глаз.
– Здравствуй, матушка царица! – сказала Софья, входя к своей мачехе и почтительно целуя ее руку. – Всенижайший сыновний поклон принесла я тебе от братца-царевича. Лежит он в постели, да и сама я что-то недомогаю, никак, огневица* напасть на меня хочет. Видно, и мне слечь придется…
– Побереги тебя Господь Бог, Софьюшка, – с притворным участием сказала Наталья Кирилловна.
Софья присела на низенькую скамью у ног мачехи.
– А что слыхать на Москве, Софьюшка? – спросила царица, смотря пристально своими черными глазами на падчерицу и как бы стараясь смутить ее своим взглядом…
– Где мне что знать! Сижу у себя взаперти, ни с кем не вижусь и ни с кем не знаюсь. Вот и святейший патриарх забыл меня совсем; никто ко мне не заглянет. Все нас позабыли, как братец Федя Богу душу отдал, – жаловалась царевна.
– Вот, Софьюшка, кажись, ведь какой ты смиренницею живешь, никого не затрагиваешь, ан, смотришь, злые люди между нами ссору завести хотят: толкуют, что из-за твоих искательств переполох на Москве затевают, – заговорила царица, сдерживая свое волнение.
Софья слегка вздрогнула, но тотчас же оправилась.
– Выдай мне, матушка, того, кто смеет это говорить, – спокойно сказала она, – зачем тебе злых людей боронить? Если что из-за них потом выйдет, так сама же ты виновата будешь: зачем злодеев нам на пагубу укрываешь!
И царевна с этими словами смело взглянула в глаза мачехи.
Царица в свою очередь смутилась.
– Да кого же мне тебе выдавать? Молва по Москве такая ходит, как тут кого уловишь и уличишь? Сказываю я тебе только то, что на миру твердят, – проговорила она, стараясь придать своему голосу оттенок равнодушия.
– Говорят на миру! – насмешливо повторила вдруг вспылившая Софья и быстро вскочила со скамейки. – Да знаешь ли ты, матушка, что говорят о тебе самой на миру? Говорят, что ты всех нас извести хочешь!
– Опомнись, безрассудная, что ты сказала! Ты винишь меня в смертном грехе! – вскрикнула царица, приподнимаясь с кресел. – Забыла ты, видно, негодница, что завещал вам покойный родитель!
– Забыла, видно, и ты, что завещал тебе он! – задыхаясь от гнева, вскрикнула Софья. – Завещал он тебе любить и оберегать нас, а разве ты так поступаешь с нами? Ты гонишь братца Иванушку в могилу, а меня и сестер моих спроваживаешь в монастырь…
Вскрикнув, царица почти что упала на кресло и заплакала навзрыд. Царевна, окинув мачеху взглядом, исполненным ненависти, и не простившись с нею, пошла в свой терем.
«Нечего нам более от них ждать; погубят они нас, если мы не обороним себя вовремя», – думала царевна.
Возвратясь в свой терем, она тотчас же на лоскутке бумаги написала:
«Мешкать не годится; принимайся, Иван Михайлович, за дело».
Записку эту царевна отправила с Родилицею к Милославскому. На другой день после стычки Софьи с Натальей Кирилловной по кремлевским палатам пошел слух, что царевна сильно заболела, заперлась в тереме и не пускает к себе никого, даже из самых близких к ней людей. Наталья Кирилловна успокоилась, полагая, что до приезда Матвеева Софья и ее согласники ничего не успеют сделать. А между тем Милославский деятельно работал. Он по нескольку раз в день пересылался через Родилицу с царевною, сообщая ей, что дело идет как нельзя лучше.
XIII
С несказанною радостью встретила Наталья Кирилловна возвратившегося из ссылки боярина Артамона Сергеевича Матвеева, ближайшего друга ее покойного мужа, который звал Матвеева почетным именем «Сергеич». При виде его в памяти царицы оживали ее детские и девичьи годы. Вспоминала она, как ее, еще маленькою девочкою, привезли из Тарусы, где было у ее отца небольшое поместье, в Москву на воспитание к родственнику Нарышкиных, Матвееву, как ее поразил тот дом, в котором жил боярин. Дом этот отличался по своей отделке и обстановке слишком резко от домов других бояр и, подобно дому князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на европейский образец. Боярин Матвеев слыл на Москве человеком разумным и ученым. Он любил чтение и беседу с книжными людьми, не только из русских, но и из иностранцев, и постоянным его собеседником был ученый грек Спатарий. Ходила даже молва, будто Матвеев знает тайную силу трав и занимается чернокнижием, и повод к этой последней молве подавал, между прочим, служивший у Матвеева араб Иван.