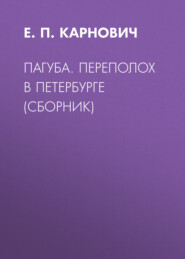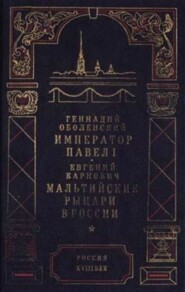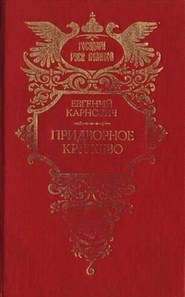По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Придворное кружево
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После того «светлейший», свидевшись с ожидавшим его во дворце Бассевичем, повторил, чтобы Бассевич не забыл внушить герцогу и герцогине быть во всем послушными перед ним, Меншиковым, а затем, возвратившись к себе домой, послал приказ начальствовавшим в Петербурге над войсками лицам, чтобы полки были готовы выступить с заряженными ружьями из своих «светлиц» по первому данному от него повелению и направились бы к Зимнему дворцу, где он приказал усилить караул.
XXVI
В светлую майскую ночь, с 6-го на 7-е число, стала по Петербургу распространяться молва, что императрицы уже нет на свете. Говорили, однако, об этом шепотом и с большой опаской. Вскоре по улицам Петербурга потянулись, по приказу Меншикова, полки, направляясь к Зимнему дворцу.
Офицеры и солдаты знали, что они идут приносить присягу новому государю, но кто будет царствовать – того никто не знал, да и все боялись спрашивать об этом. Лазутчики Меншикова шныряли в толпе и старались заговаривать с народом о предстоявшей перемене, но все со страхом удалялись при первом слове. Они приставали и к шедшим ко дворцу солдатам, но получали от них один и тот же крайне осторожный ответ: «Ничего знать не могим». Шайкой этих неудачных разведчиков руководил секретарь Меншикова, Андрей Яковлев, который еще и прежде, желая проведать, что говорят в народе о «светлейшем», переодевался в мужицкое платье и шлялся по кабакам, рынкам, базарам и баням, которые в то время были самым любимым сборищем праздного петербургского простонародья.
– Ах ты, Господи, жаль-то как царицу-матушку! И кому-то теперь присягать мы будем? – прикидываясь простаком, говорил княжеский секретарь.
– Кому начальство прикажет, – отвечали ему солдаты.
– Кому велят, тому и присягнем, – отвечали обыкновенно простолюдины или – что случалось еще чаще – делали вид, будто ничего не слышат.
– Нужно будет присягать тому, – наставительно внушал Яковлев, – кому прикажет светлейший князь Александр Данилович Меншиков; пока у нас нет государя, он – человек начальный, всем он – голова.
– Ладно, пусть будет так, – уступчиво соглашались слушатели и пятились от него подальше, подозревая, что он, должно быть, из сыщиков или из гулящих людей, готовый сейчас закричать «слово и дело»*.
Войско между тем окружило Зимний дворец и прекратило всякое движение по прилегавшим к нему улицам. Ко дворцу пропускали только «знатных персон», которых, независимо от одежды, лент и звезд, легко было узнать по числу лошадей, запряженных в экипаж, и по ливрейным лакеям. Только люди чиновные ездили шестерней цугом; малочиновные четверней, а еще менее чиновные – только парою.
Никто, однако, не видел проезжавшей по улице и окруженной вершниками кареты светлейшего князя, которая по своей богатой отделке, по зеркальным стеклам и в особенности по золотой, поставленной на верху ее кузова княжеской короне резко отличалась от всех других, хотя тоже роскошных карет и была давно известна всем жителям Петербурга. Ее знал каждый мальчуган, и при ее приближении все спешили снимать шапки. Меншикову оказывался такой же почет, как и государыне и членам царской фамилии.
Теперь «светлейший» не проезжал по улице в своей великолепной карете, потому что он еще спозаранку был во дворце и с лихорадочною торопливостью, ввиду близкой развязки, делал свои распоряжения. Он послал, между прочим, за графом Головкиным и Остерманом; но этот последний, по своему обыкновению, не явился, ссылаясь на мучившую его подагру и втайне рассчитывая, что при теперешних запутанных обстоятельствах лучше всего держаться в стороне до тех пор, пока вопрос о престолонаследии разрешится так или иначе.
«Тогда и будем знать, у кого искать, – рассуждал сам с собою предусмотрительный барон, – а то теперь, чего доброго, попадешься впросак».
Приехали во дворец по зову Меншикова также и главные его сторонники. Они собрались в приемный зал, а сам «светлейший» безотлучно оставался в опочивальне императрицы.
Над Петербургом в это время расстилался легкий сумрак непродолжительной майской ночи. Нева как будто заснула и казалась неподвижной, и среди тишины, окружавшей дворец, до стен его доносились всплески весел переезжавших через реку яликов, а изредка и лошадиный топот по плавучему мосту, перекинутому близ дворца. Золотая игла над Петропавловской церковью медленно гасла, освещаемая вечернею зарей. Ее розовый отблеск отражался на окнах дворца, в которых начали слабо мелькать огни зажигаемых свечей.
За Невой послышался протяжный бой часов на Петропавловской крепости, отсчитавших последний час в жизни Екатерины. Они пробили девять, и куранты их заиграли заунывную молитву. В то же время стал доноситься через реку барабанный бой вечерней зори на крепостной кордегардии.
Не успели еще пробить часы за Невой первой четверти десятого, как из спальни императрицы вышел в приемную с понуренной головой князь Меншиков. Из отворенных дверей спальни несся плач, вой и громкое всхлипывание. Там рыдали с жалостными причитаниями ближайшая прислуга императрицы и обе ее дочери. Елизавета металась из стороны в сторону, припадая головой к постели своей умершей матери. Герцог поддерживал за талию и утешал свою плакавшую навзрыд жену. Софья Скавронская и две маленькие сестры ее стояли как растерянные; они как будто боялись, что из той роскоши и почета, в которые они попали случайно, по милости императрицы, возвратятся снова в прежнее ничтожество.
Участливо, с набегавшими на глаза слезами смотрели на умершую Екатерину дети цесаревича Алексея. Они не были привязаны к Екатерине и даже не могли любить ее, но вид смерти не мог не тронуть их, как неизвестное еще им зрелище, да и раздававшиеся кругом их плач и рыдания неизбежно должны были повлиять на их детские еще души. Великий князь готов уже был расчувствоваться и заплакать; но сдержанная и чуждая всякого притворства Наталья стояла на месте как вкопанная и, склонив голову, только шепотом молилась за свою умершую нареченную бабушку.
Между тем в приемную вошел Меншиков.
– Матушка наша, благочестивейшая государыня императрица Екатерина Алексеевна преставилась, – сказал он взволнованным голосом. – Да упокоит Господь Бог душу ее в селениях праведных!
Все молча перекрестились, и затем кто начал плакать навзрыд, кто принялся хныкать, кто выть, кто вздыхать, выражая громко свое сожаление о потере, постигшей отечество.
Меншиков, заложив за спину одну руку, величаво стоял среди приемной, обводя спокойным взглядом всех присутствовавших, в числе которых были и представители иностранных держав: Рабутин, Вестфален, шведский посол генерал Цедергольм и голландский резидент де Дье.
«Светлейший» молчал, как бы давая время увлечься первому впечатлению, произведенному сообщенным им печальным известием. В это время из спальни вышла в приемную камер-фрау императрицы, Крамер, и, всхлипывая, подала запечатанный пакет герцогу, а тот почтительно передал его Меншикову.
– Это не ко мне, а к вашему высочеству, – равнодушно сказал «светлейший», возвращая пакет герцогу. – Но так как на пакете есть приписка, чтобы он был вскрыт в Верховном тайном совете, то благоволите передать его господину канцлеру, а затем распечатать пакет и прочесть, что написано в бумаге, будет его дело. А ты, Гаврила Иванович, распорядись собрать назавтра, в восемь часов утра, Верховный тайный совет. Распорядись также, чтоб к этому времени здесь, в приемной, собрались президенты и члены всех коллегий и весь штатский генералитет. Ты, Иван Матвеевич, созови сюда все адмиралтейские чины, – продолжал он, обращаясь к великому адмиралу. – Ты же, преосвященный владыка, – сказал он архиепископу тверскому Георгию Дашкову*, – созови Святейший синод. Заседание совета будет, как обыкновенно, происходить в апартаментах государыни, а постановление его будет объявлено всем собравшимся чинам в этой приемной.
Все раболепно поклонились «светлейшему», который приказывал теперь как первенствующая особа, отстранив и герцога, и цесаревен, и великого князя от всякого участия в своих личных распоряжениях.
XXVII
На другой день, 7 мая, к назначенному времени собрались во дворец все те лица из чинов военных и гражданских, которые должны были быть созваны по распоряжению князя Меншикова.
– Гаврила Иванович, – сказал он Головкину, – вскрой этот пакет и прочти громогласно ту бумагу, которая в него вложена.
Канцлер исполнил приказание князя и начал читать «тестамент»* императрицы.
Для Анны Петровны и для герцога этот «тестамент» был уже известен в общих чертах, так как Елизавета, подписавшая его за свою мать, сообщила им об этом. Самой же Елизавете незачем даже было теперь слушать то, что предварительно читала она, и потому она безучастно относилась к тому, что происходило вокруг нее. Но когда Головкин дошел до той статьи, в которой поручалось регентству выдать ее замуж за князя-епископа, лицо ее вспыхнуло, и она украдкой обвела глазами присутствовавших, которые все пристально смотрели теперь на смутившуюся еще более молодую девушку. Герцог и в особенности герцогиня, казалось, были недовольны тем, что они слышали, но ни она, ни он, запуганные предварительно Меншиковым через Бассевича, не проронили ни слова против «тестамента», который и был беспрекословно признан подписанным покойной государыней.
Положение Петра, воцарившегося неожиданно для него самого, тотчас изменилось. Все полагали, что императрица назначит себе преемницей одну из своих дочерей, и потому не спешили оказывать ни великому князю, ни его сестре раболепных знаков внимания, а сам великий князь как будто старался спрятаться за своих теток и за герцога, не ожидая для себя ничего доброго. Когда же канцлер дочитал до того места, где сукцессором Екатерины назначался великий князь, то он бросился обнимать свою сестру. Великая княжна схватила его руку, со слезами на глазах поцеловала ее и потом крепко сжала ее в своей руке, не желая отпустить от себя брата.
Когда канцлер окончил чтение «тестамента» и против него не было предъявлено никаких возражений, то Меншиков с глубоким поклоном почтительным движением руки пригласил нового императора на середину залы и, став перед ним на одно колено, поцеловал его руку, пожелав ему царствовать долго и благополучно и подражать деяниям и подвигам своего великого деда, отца отечества.
После Меншикова стали приносить поздравления герцог и герцогиня, не преклоняя колени, но только целуя руку государя, на что он отвечал легким поцелуем. Дошла очередь до Елизаветы. Прежде чем успела она взять его руку, он крепко обнял свою красавицу тетку и начал целовать ее в алые губки и в зардевшиеся щечки.
Остерман, его воспитатель, подметил это сердечное движение мальчика.
«Значит, я наладил хороший брак», – подумал он, вспоминая свой прожект о слиянии двух отраслей в потомстве Петра Великого; но как человек, посвящавший себя некогда изучению педагогики, да и теперь любивший ее, он впал тотчас же в глубокое раздумье.
«Не хорошо, что в императоре-отроке проявляются такие порывы чувственных вожделений. Это доказывает, что в нем развиваются пылкие страсти в слишком раннем возрасте. Я помню себя в его годы: ни о Минхен, ни о Лизхен я еще не думал в его пору и, бывало, краснел и стыдился, когда они начинали ласкать меня, как красивого мальчика. Не те здесь нравы: здесь не то что в тихом нашем Бокуме. Впрочем, нечего и удивляться: великий князь видел вокруг себя много соблазнов. Его развращали на каждом шагу. Один безобразник Девьер просветил его так, как было бы впору, пожалуй, и двадцатилетнему юноше, да и физически он развит не по летам».
И Остерман, выросший в благонравном доме своего отца, протестантского пастора, принялся размышлять о своей целомудренной жизни, которую он соблюл до самой могилы. Он не увлекался никогда мимолетною любовью к женщинам и оставался неизменно верен своей суровой супруге, которая, с своей стороны, платя ему тем же самым, держала его в ежовых рукавицах.
Между тем как Остерман вдавался в размышления о вредном влиянии дурных примеров на юношество, поздравления императора лицами, находившимися в приемной, окончились. В числе лиц, поклонившихся впервые новому государю, оказались и некоторые дамы, бывшие наготове, по первому известию о провозглашении нового царствующего лица, приехать во дворец для всеподданнейшего поклонения. Незаметный и даже, так сказать, загнанный прежде внук Петра явился теперь во всем торжестве царственного величия. Слезы во дворце немедленно иссякли, потому что тех, кто искренно оплакивал Екатерину, было немного, а те, кто плакал, рассчитывая тем заслужить благорасположение цесаревен – из которых та или другая могла вступить на престол, – поняли несвоевременность и, главное, всю бесполезность своих и искренних, и притворных слез. Можно сказать, что теперь все сияли радостью, смотря на нового государя, на лице которого отражались кротость и добродушие и выглядывавшего и по росту, и по осанке уже не мальчиком, а зрелым юношей.
Когда окончились поздравления в приемной, Меншиков попросил императора показаться перед войсками и велел растворить настежь двери балкона, выходившего на ту площадь, на которой стояло войско, в ожидании, кому оно должно будет принести присягу. Солдаты вспоминали, как с небольшим два года тому назад они также были собраны на этой же площади и думали, что преемником царя Петра I будет объявлен внук Петра, когда совершенно неожиданно была провозглашена государыней Екатерина Алексеевна. Так и теперь они толковали о том, что, вероятно, будут присягать одной из царевен, когда вдруг на балконе показался великий князь. Герцог хотел было пройти на балкон, чтобы там стать рядом с государем, но Меншиков, приудержав его не совсем вежливо, появился на балконе сзади императора, немного поодаль от него. На площади, при виде нового царя, громко грянул введенный в ту пору в русском войске приветственный латинский клич «vivat», заимствованный от поляков. По знаку, данному с дворцового балкона, выходившего на Неву, началась в Петропавловской крепости пальба из пушек, а на нее отозвались выстрелы из орудий, расставленных на валах тогдашнего Адмиралтейства, находившегося на том же месте, где и нынешнее, но имевшего вид крепости.
Знатные персоны, бывшие в приемной, отправились по приглашению канцлера в дворцовую церковь для принесения присяги воцарившемуся государю; ему же стало присягать и войско, расставленное на площади. По отслужении в церкви молебствия о благоденственном житии, здравии и спасении благочестивейшего императора Петра Алексеевича открыто было торжественное заседание Верховного тайного совета.
Здесь Петр II сел на вызолоченных императорских креслах, поставленных на возвышении под бархатным балдахином, убранным золотою бахромой и с такими же кистями; по правой стороне этого возвышения сели на стульях герцогиня Анна Петровна, ее муж, великая княжна Наталья Алексеевна и великий адмирал граф Апраксин; по левой стороне разместились, также на стульях, цесаревна Елизавета Петровна, князь Меншиков, канцлер граф Головкин и князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остерман – болезнь которого прошла мгновенно после того, как он узнал через посланное его шурином Стрешневым письмо о назначении Петра императором, – поспешил во дворец и, войдя вместе с другими в залу заседания Верховного тайного совета, стал, в качестве бывшего обер-гофмейстера великого князя, справа подле императорского кресла. Все прочие оставались на ногах, за исключением архиепископа ростовского Георгия Дашкова и фельдмаршала Сапеги, которые также «были почтены стульями».
Когда все заняли указанные им места, секретарь Верховного тайного совета, Степанов, еще раз прочел завещание покойной императрицы, и затем совет постановил: «Записать в протокол, что все по тому тестаменту должно исполнять».
Протокол этот был подписан не одними членами Верховного совета, но и всеми лицами, находившимися в собрании.
В длинном ряду этих подписей стояла седьмою подпись Сапеги, подписавшегося по-польски «Jan Sapieha».
В тот же вечер кабинет-секретарь Макаров* известил главноначальствовавшего в Москве старика графа Мусина-Пушкина, что «7 мая, в девятом часу утра, собрались в большую залу вся императорская фамилия, весь Верховный тайный совет, Святейший синод, сенаторы, генералитет и прочие знатные воинские и статские чины и что по тестаменту ее императорского величества учинено избрание на престол российский новому императору наследственному государю, его высочеству великому князю Петру Алексеевичу».
XXVIII
В 1717 году в газетах Западной Европы, обращавшей уже внимание на Россию, и в особенности – на прославившегося, а отчасти и лично известного европейцам ее государя Петра I, сообщались сведения о разладе его со своим старшим сыном, царевичем Алексеем, который убежал от грозного отца и отдался под покровительство римско-немецкого императора Карла VI, женатого на родной сестре умершей уже жены царевича, Софии-Шарлотты, принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
«Кажется, что наступают для меня благоприятные коньюнктуры», – подумал, прочитав это известие, бывший в то время в Гамбурге русским резидентом Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.
Он заходил по своему кабинету все более и более ускорявшимися шагами. Волнение его возрастало, но вскоре оно несколько утишилось, и он, присев к письменному столу, стал писать по-латыни письмо, с таким обращением к тому лицу, которому оно предназначалось:
«Serenissime et augustissime altissitudent princeps gratiosissime Domine Zarewicz»**.