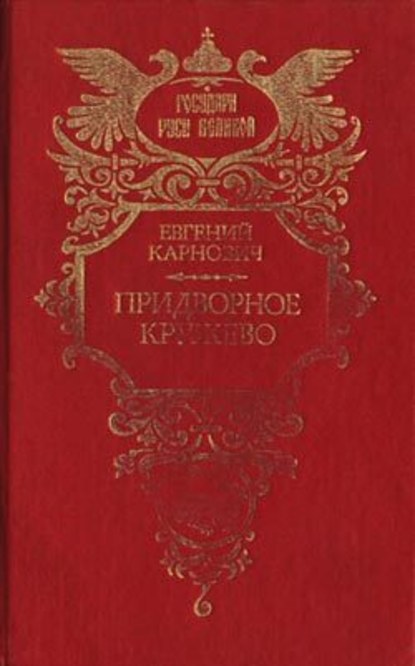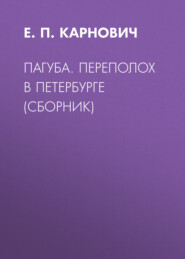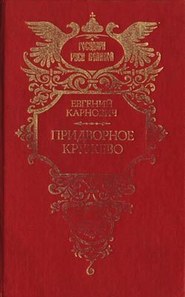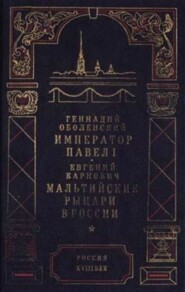По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не говоря ни слова, патриарх пошел из Крестовой палаты, сопровождаемый насмешками своих дерзких противников.
– Святейшему патриарху на Лобное место ходить незачем, великие государи указали быть собору пятого числа сего месяца в Грановитой палате, – заявил Хованский выборным.
Обо всем, что происходило в Крестовой палате, дошло тотчас же до сведения царевны-правительницы.
«Не напрасно подозревала я Хованского, недоброе он затевает!» – подумалось ей.
Между тем раскольники стали деятельно подготовляться к предстоящему собору. Они ходили по стрелецким слободам, побуждая стрельцов рукоприкладствовать под челобитною, которую следовало подать государям при открытии собора. Нападали они на православных священников и избивали их до полусмерти.
– Мы против челобитной отвечать не сумеем, а если к ней руки приложить, то и ответ должно будет дать. Сумеют ли сделать это и старцы? Чего доброго, намутят они только. Это дело не наше, а патриаршее, – заговорили стрельцы, не сочувствовавшие расколу вообще и в особенности подаче челобитной.
Проведала об этом царевна-правительница и, по совету Голицына, решилась противодействовать влиянию Хованского на раскольников; но, опасаясь с первого же раза раздражить как их самих, так и множество стрельцов, их единомышленников, она допустила состояться собору.
Настало 5 июля 1682 года, день, для того назначенный.
Не успел еще патриарх отслужить в Успенском соборе молебствие об утишении и умиротворении святой Божьей Церкви, обуреваемой расколами и ересями, как до него стал доходить постепенно усилившийся на Соборной площади шум, который вскоре усилился до того, что пришлось приостановить службу.
– Выйди ты к ним, отец Василий, и уйми нечестивцев. Чего они бесчинствуют перед храмом Господним! – гневно сказал патриарх, обращаясь к протопопу Спасской церкви.
– Того… святейший владыко… оно того… – замялся и забормотал протопоп, оробевший ввиду предстоявшего ему опасного поручения.
– Чего того? – передразнивая протопопа, сердито прикрикнул патриарх. – Ступай, коль приказываю. Вот тебе обличение на Пустосвята, прочитай его им.
Неохотно поплелся отец Василий в шумную толпу, и сильно екнуло его сердце, когда он, выйдя на паперть Успенского собора, взглянул на площадь.
Вся площадь была сплошь покрыта народом, на который сзади напирали новые прибывающие ватаги. По площади ходил и смешанный гул и громкий говор. Над головами бесчисленной толпы то поднимались, то опускались старые закоптелые иконы, огромные подсвечники с пудовыми свечами, ветхие книги, аналои и скамейки. Над волновавшеюся площадью высоко виднелся Пустосвят, взобравшийся на устроенные подмостки, а около него стоял его неразлучный спутник, Сергий.
– Пусть они идут к нам! Гони их из хлевов и амбаров! – рычал Никита, указывая на кремлевские храмы. – Чего они не выходят на Лобное место препираться с нами!
Протопоп колебался, идти ему или нет в это шумное сонмище. Он видел, что теперь временная его паства состояла не из мирных овечек, а из бешеных волков. Протопоп решился не идти и, остановясь на паперти, начал там наскоро читать отпечатанное накануне по указу патриарха отречение от раскола, которое дал на соборе Никита и в котором он просил прощения за отпадение в ересь. Не успел, однако, отец Василий прочесть даже наскоро двух строк, как стрельцы подхватили его, полумертвого от страха, под руки и потащили к подмосткам, на которых голосил Пустосвят. Раскольники с остервенением кинулись на протопопа.
– Не трожь! – крикнул Сергий. – Пусть читает обличение, нам только этого и нужно. С него мы и спор с никонианцами заведем.
Толпа послушалась Сергия, расступилась и поставила Василия на скамейку подле Никиты.
– Читай, батька! – закричали со всех сторон протопопу.
Дрожащим и прерывающимся голосом принялся он за чтение, но тотчас же на площади поднялся такой страшный шум, что нельзя было расслушать ни полслова, а стоявшие несколько поодаль от протопопа раскольники начали спускать с правого плеча накинутые на опашку кафтаны и вынимать из-за пазухи каменья, готовясь половчее метнуть ими в злосчастного обличителя.
– Всуе, отче, будешь трудиться. Видишь, никто тебя не слушает, – сказал Сергий Василию. – Слезай-ка, брат, подобру-поздорову со скамейки да посмотри, как будут внимать нам, ибо мы не собою глаголем, а от божественных писаний.
Говоря это, Сергий потянул Василия за полу рясы, живо стащил со скамейки и сам взобрался на его место.
Толпа, увидя, что Сергий собирается говорить, мгновенно смолкла; камни были спрятаны опять за пазуху, а кафтаны натянуты на плечо.
Воспользовавшись вниманием, с каким раскольники слушали Пустосвята о силе двуперстного знамения и о нечестивом поклонении четырехконечному кресту, отец Василий проворно шмыгнул от скамейки и успел здраво и невредимо пробраться в Успенский собор, где и донес патриарху, что с раскольниками никак сладить нельзя, почему и святейший поспешил поскорее выбраться из собора и удалиться в свои хоромы.
Кончил свое поучение Сергий, и снова раздался на площади громовой голос Никиты.
– Пойдем, православные, препираться с патриархом. Осквернены церкви никонианцами! Наступило царство антихриста! – ревел Пустосвят, ведя толпу за собою к Красному крыльцу.
– Пусть выйдет к нам патриарх! – неумолчно голосила толпа.
В кремлевских палатах господствовали теперь ужас и смятение. Бодрствовала одна лишь правительница, порываясь выйти сама на Красное крыльцо, чтобы увещевать раскольников.
– Пошли к ним, благородная царевна, на Лобное место патриарха, и они с ним уйдут из Кремля, а сама к ним не ходи, не пускай к ним и государей. Убьют они вас всех, – запугивал Софью Хованский. – Умолите ее пресветлость не выходить на Красное крыльцо, не пускайте туда и государей; не ровен час, беда будет!
– Нет! – отвечала она. – Не оставлю я без защиты Церкви и верховного ее пастыря. Если препираться о вере необходимо, то быть собору в Грановитой палате, туда пойду и я. Кто хочет идти со мной? – смело спросила Софья.
Решимость царевны придала бодрость всем находившимся в палате.
– Я пойду с тобою! – откликнулась царица Наталья Кирилловна, не желая дать царевне Софье случай одной показать свое бесстрашие.
– Пойду и я! – с живостью проговорила двадцатидвухлетняя царевна Мария Алексеевна, младшая сестра Софьи от одной с нею матери.
– Нешто не пойти ли и мне? – как бы про себя проговорила Татьяна Михайловна.
– Пойдемте! – воскликнула Софья и, взяв тетку и сестру за руки, повела их в Грановитую палату. Между тем Хованский вышел на площадь. Он объявил народу волю царевны и звал «отцов» в Грановитую палату.
– Сама царевна хочет выслушать вашу челобитную, не идти же ей к вам на площадь! – вразумлял Хованский раскольников, не желавших пойти во дворец.
– Государь царский боярин, – возразил Сергий Хованскому, – идти нам в палату опасно, не было бы над нами какого вымысла и коварства. Лучше бы изволил патриарх здесь перед всем народом свидетельствовать священные книги. Как пустят в палату нас одних, что мы там станем делать без народа?
– Невозбранно никому идти туда! Кто хочет, тот и ступай! Кровью Христовою клянусь, что вас никто не тронет, – говорил Хованский.
– Идем, православные! – воодушевленно крикнул Никита.
XXII
Внушительно и великолепно для того времени выглядывала Грановитая палата, бывшая главною приемною комнатою Кремлевского дворца. На стенах этой палаты, расписанных цветами, узорами и арабесками, были нарисованы по золоту изображения всех великих князей и царей московских, а на сводах палаты были картины из Ветхого завета и из русской истории. На находившихся в ней разных поставцах ставили в торжественных случаях хранившуюся на казенном дворе золотую и серебряную посуду, изобилие и ценность которой так дивили иностранцев и давали им высокое понятие о громадных богатствах московских государей. В Грановитой же палате стоял древний трон московских государей, сделанный из слоновой кости и золота. При введении царского двоевластия в Грановитой палате поставили для обоих государей одно, общее царское место, ступени которого были обтянуты багряным сукном и на помосте которого находились два царских трона, богато вызолоченных и обитых пурпуровым бархатом. На эти троны сели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна, а в креслах, поставленных на ближайшей к тронам ступени, поместились царица Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна и патриарх. Около царского места, справа расселись на скамьях митрополиты и весь Священный собор, а слева – бояре, думные люди и выборные стрельцы. Между тем священники и дьяконы огромными ворохами несли в палату старые и новые книги, а также древние рукописи, славянские и греческие, на которые думали ссылаться отцы собора для поражения своих противников.
Радостно и торжествуя в душе, смотрела царевна Софья на это небывалое еще в Москве собрание, на котором не только явились царица и царевны с отброшенными фатами, но на котором женщины занимали первенствующее царское место. Предрассудки насчет женской неволи, искони гнездившиеся в московских теремах, были теперь окончательно уничтожены. Женщины, благодаря отважности царевны Софьи, добились не одной свободы, но и права участвовать не только в государственных, но даже и в церковных делах. И справедливо гордилась двадцатичетырехлетняя девушка тем, что такой быстрый и резкий переворот в судьбе русской женщины произошел по ее почину. Не хотела, однако, она остановиться на первых шагах своего победного шествия и замышляла идти все дальше и дальше и стать самой на такой высоте, которая была бы в Московском государстве без примера в прошедшем и, быть может, осталась бы без подражания в будущем. Жажда безграничной власти и блестящей славы манила вперед честолюбивую царевну, и Софья не знала, где и когда придется ей остановиться в ее смелых стремлениях и пылких мечтаниях.
Раздумывая о заманчивой будущности, сидела царевна на царском престоле, когда сильный шум и крики, раздавшиеся в дверях Грановитой палаты, заставили ее встрепенуться.
В двери палаты врывалась толпа, таща с собою с площади огромную чашу со святою водою, иконы, свечи, аналои, просфоры, книги и скамейки.
На пороге палаты началась страшная давка, и вдобавок к этому раскольники затеяли на Красном крыльце драку с никонианскими попами. Стрельцы едва разогнали подравшихся, заступаясь, впрочем, за раскольников и порядком помяв бока неприязненным им богословам.
Буйный вход раскольников в царское жилище предвещал бурю, но, казалось, царевна была готова выдержать бестрепетно все ее порывы, и вот, среди шума и стука, раздался ее звонкий и твердый голос.
– Для чего так дерзко и так нагло пришли вы в царские чертоги, как будто к иноверным и не знающим Бога государям? – спросила она.
Все с изумлением посмотрели туда, откуда несся этот смелый и строгий голос. Там стояла молодая девушка в блестящем царственном облачении. Густые темные волосы выбивались длинными прядями из-под надетого на ее голове и сиявшего драгоценными камнями золотого венца с двенадцатью, по числу апостолов, закругленными зубцами. Лицо ее не поражало прелестью женственной красоты, но в нем выражались ум и мужество. Щеки царевны горели румянцем негодования, а глаза сверкали гневным блеском. Все приутихли. Видно было, что строгий женский голос, раздавшийся так неожиданно под сводами Грановитой палаты, подействовал на непривычную еще к нему толпу сильнее, нежели мог бы подействовать на нее повелительный и грозный окрик мужчины.
– Пришли мы, – заговорил на первый раз смиренно Пустосвят, – к великим государям побить им челом об исправлении православной христианской веры. Пришли мы просить, чтобы царское рассмотрение дала ты нам с новыми законодавцами, чтобы Церковь Божия была в мире и соединении, а не в мятеже и разодрании.
Царевна взглянула на патриарха и подала ему знак глазами, чтобы он отвечал Пустосвяту.