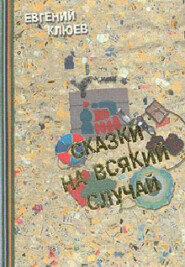По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Translit
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Фердинанд и Амалия между тем – наверное, тоже после пива – сильно прониклись идеей двойничества.
– Конечно, – философствовала Амалия, – Ваш Торульф прав, бесконечное варьирование невозможно, особенно если учесть, что варьирование происходит вокруг одного и того же архетипа.
– Амалия, – обнимал он ее, – Вы тоже доморощенный мистик?
– Что такое «доморощенный»? – не понимала Амалия. – Мне кажется, мистика так не делится – на доморощенную и какую-то еще.
Делится, делится, милая Амалия… Есть мистические традиции, старые как мир, даже старше. Хорошо разработанные мистики, со множеством адептов, ритуалов… и адепты понимают, вокруг чего мистики построены, знают, куда они их приведут.
– Тогда это уже не мистика, тогда это уже игра…
Разумница-Амалия… знаний бы ей побольше.
– Вот Ваши двойники, тройники… – это доморощенная мистика?
Это вообще не мистика, разумница-Амалия… это так, заблуждение ума, оно пройдет, когда-нибудь пройдет, в один прекрасный день пройдет. Это из ряда фантазий моей мамы: что сына-убьют-и-ограбят, правды в маминых фантазиях не больше, чем в моих наблюдениях… все глупость и глупость. И – застрявшая строчка из Пастернака, забыл из какого стихотворения, всегда хотел уточнить, времени не было: «…на ходу на сходствах ловит улица…», два раза «на», не очень хорошо, но как точно!
Это случается только в городах: феномен двойничества такой же продукт цивилизации, как и… как и все остальное. Странно было бы ожидать подобных встреч прежде, в далеком прошлом человечества: и жили в основном по деревням, и ездили меньше и дольше – шанс увидеть себе-подобного, ему-подобного, ей-подобного невелик был. Это сегодня… цивилизация, глобализация, экстериоризация, полтора часа – и другая страна, несколько часов – другой материк. Плотнее живем, разумница-Амалия, все в куче, всё в куче – камешки общего узора, ка-лей-до-скоп. Не успел опомниться – выходи из самолета, ступай на новую землю… понятия «расстояние» нет больше, время не сильно разделяет – оно, скорее, соединяет.
В общем, пьяные одни разговоры – и с кем? Чуть ли не с тинейджерами… откуда им что знать!
А вот Берлин – Берлина он не помнил: ни где ходили, ни что видели… между тем как и ходили, и видели. Но с таким же успехом это мог бы быть Мадрид, причем Фердинанд и Амалия были бы тогда Фернандо и Амарилья, неважно.
С Манон опять тогда не встретились… жалко.
Я-сама-объявлюсь-ладно?
Ладно, Манон, ладно.
Он воспитанный человек. Он знает, что от него требуется в таких ситуациях. В таких ситуациях от него требуется «уйти под землю», так называют это датчане.
С тех самых пор он живет под землей.
«И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли».
А за окном поезда между тем определенно уже Финляндия: русский язык давно пропал со всех табличек.
Незадолго до прибытия в Хельсинки позвонил Торульфу, все рассказал.
– А чего ты взволнованный такой? – спросил тот.
– Разве взволнованный? Нет, по-моему…
– Да страшно просто взволнованный, голос дрожит, язык неточный! Казалось бы, не впервой маме наврал, насколько я тебя знаю…
– Просто мне в пути три дня быть – и врать через каждые два часа требуется, мы созваниваемся постоянно.
– Зачем?
– Маме так надо – иначе она беспокоится. Скоро, например, буду звонить ей опять. Из Берлина.
– Ты, смотри, не заиграйся там весь, – предупредил Торульф. – Опасно может быть.
– Что опасно?
– Со словами играть, чтоб тебя!.. Не нравится мне, что ты такой взволнованный. Приедешь в Хельсинки – водки выпей. Хотя там, вроде, сухой закон…
– Я в Берлине выпью, Там нет сухого закона.
– Вот я и говорю, опасно.
Торульфу он, кстати, звонит довольно часто, а вот видятся они совсем редко. При этом ближе, чем Торульф, у него почти никого и нет. У Торульфа ближе, чем он, нет совсем никого, но так или иначе, а их немыслимая близость не требует подтверждений. Они живут в разных странах, на расстоянии в пару-тройку тысяч километров – и, по совести говоря, общего у них мало. Торульфу порядком за семьдесят, и он просто старый брюзга. Старый брюзга и органист в далекой не только от всего мира, но, кажется, и от всей Норвегии церкви, на самом северо-востоке Скандинавии. Торульф ненавидит города – понятие «город» как таковое ненавидит. А любит солнце, горы, море, деревья, траву, птиц… все эти долбаные восходы-закаты, приливы-отливы, прилеты-отлеты.
Между тем как сам он любит города, любит Город – город-понятие, а то, что любит Торульф, иронично называет «родная природа» и терпеть не может.
Но Торульф имеет власть над ним. Страшную, сказать по совести, власть, причем даже неизвестно, отдает ли себе в этом отчет сам Торульф. Если завтра Торульф распорядится: «Поезжай в Зимбабве и проповедуй там вегетарианство» – придется, наверное, ехать. Правда, Торульф никогда не отдает распоряжений, даже советов – и тех не дает.
Это Торульф сказал ему: «Возраст, мой дорогой. Я часто думаю о том, что видел уже гораздо больше, чем мне предстоит увидеть, – видимо, скоро ты тоже будешь вынужден признаться себе в этом. А оно как раз и означает, что место памяти начинает занимать историческая память».
Торульф постоянно пишет книги и никогда не издает их. Он пишет книги для себя. В тетрадях, удивительным своим – тончайшим, разборчивейшим – почерком. Причем всегда – несколько книг одновременно. Одна из них называется «Историческая память».
Если бы не знать, что он пишет книги для себя, можно было бы цитировать фрагменты оттуда… А так – можно только пересказывать, но разве перескажешь?
Вот хоть и про историческую память. Именно там, в этой книге, говорится, что наиболее важное отличие людей от прочих живых существ – наличие исторической памяти, со временем, по мере всплывания на поверхность тех или иных слов, начинающей развертывать перед нами свои картины. Как будто целую жизнь мы набираем впечатления, не отдавая себе в этом отчета и не запоминая, но регистрируя все, с чем соприкасаемся… и вот, в определенном, позднем, возрасте зарегистрированное в течение многих и многих лет вдруг начинает словно бы проявляться – проступать на поверхности, все чаще напоминая о себе. Потому-то и отказывает вдруг так называемая актуальная память – память о ближайших событиях нашей жизни, которые мы уже устаем обозначать словами. Зато историческая память – она торжествует. Все, о существовании чего мы даже не подозревали, но что, тем не менее, было сохранено в нашем сознании в виде слов, внезапно словно озаряется светом – и мы начинаем припоминать: имя человека, имя ситуации, имя места… мы-с-Вами-где-то-встречались!
С другой стороны, есть, говорят, даже одно психическое расстройство, при котором человек помнит то, чего не было… жуткое такое расстройство, если, конечно, так действительно бывает. Как же не бывает: с ним уже не раз и не два случалось! Ну и… видимо, скоро он начнет подходить к посторонним и убеждать их в том, что знаком с ними. И люди станут шарахаться от него…
Кстати, однажды в Копенгагене он видел умершего на тот момент (причем тогда уже пять лет назад как умершего!) знакомого – знакомого из ближнего Подмосковья. И – всплывшего вдруг снова, в зауряднейшей ситуации покупки воскресных булочек в кондитерской на Мимерсгаде. Умерший задержал на нем взгляд – и вспомнилось… слово вспомнилось: Ро-зен-кранц. Пришлось сказать: добрый день. Привет-привет, ответил Розенкранц и смутился. И заказал шесть булочек – явно, стало быть, не только для себя. Между тем как у умершего никого больше не было. Прежде не было… а теперь – было?
Едва ли это проделки исторической памяти: с ней все, вроде бы, в порядке: историческая память рисует похороны Ро-зен-кран-ца – похороны, на которых он присутствовал.
Да нет, нет и нет… обознаточки-перепряточки! Иначе, конечно, и быть не может. Это он сам послал умершему взгляд – тот и ответил: продолжительным взглядом, взглядом в самое сердце, ах, забыть, забыть, ничего не случилось, ничего не было, у-каждого-из-нас-есть-двойник, азы даже не доморощенной, а просто бытовой мистики. Открой, вон, Сарамаго – и читай.
Сколько уже раз это случилось? Да не так уж и много раз… если учесть, что в Дании он целых четырнадцать лет прожил. Была, значит, Стина, затем был этот, как его, Ольсен… да, Арне Ольсен из одной случайной ютской компании, они еще попереписывались немножко в дальнейшем, потом – умерший знакомый с шестью булочками, потом – Алексей Петрович, дважды… правда с перерывом (в год, кажется). И еще Лизелотте – смешная толстая Лизелотте, промчавшаяся мимо него в окне такси и даже помахавшая рукой… в Ростове-на-извините-Дону, где делать ей было не-че-го! Ну и, кроме Лизелотте, еще двое… ммм, неважно кто – важно, что двое. Итого семеро. Семеро за четырнадцать лет. То есть с периодичностью раз в два года. И чего, спрашивается, тогда огород городить? Если и бред, то пока не сильно систематический!..
Да, плюс одна из его студенток, невероятно похожая на дочь Соколовых… м-да, какой та была лет двадцать назад, но другой он ее и не помнил. Студентка была из Сербии, звали Йованна.
Впрочем, это если только людей брать, потому что есть ведь еще и другое. Есть места… есть книги, есть музыка, есть какие-то – разные! – предметы. Хорошо, не будем о предметах. Достаточно вот просто мест… вот просто и Хельсинки, плывущего за окном поезда. Он, оказывается, знает этот город. Он еще не вышел на перрон, но довольно и того, что плывет за окном: плыло уже, плавало уже! Причем не в детском сне о хельсинках плыло, Бог с ним, со сном, в снах много чего плавает, за всем не уследишь… а так, перед глазами.
Катя оказалась и вправду милой – милой стеснительной девушкой, совсем молодая, хорошенькая… Вы и есть такой-то? Именно такой я и есть. Повезла его через центр – Катя, это ведь русская церковь, слева? – Откуда Вы знаете? – Да знаю откуда-то… – и дальше, к порту, к невменяемых размеров парому, уже стоявшему наготове, хотя отплытие назначено на вечер. Выкупили билет, посидели в портовом кафе, обнялись на стоянке, расстались.
Хельсинки был просто маленький Питер.
Он отправился гулять – медленно, со вкусом. Мимо питерских домов – домиков в сравнении с Питером. Не на лингвиста ему следовало в свое время учиться, а на историка архитектуры, откуда-то было в нем всегда знание этих вот балясин… аркбутанов, люнетов, закомар – того, что полагается историку архитектуры: требовалось лишь систематизировать разнообразные «балясины», распределить по ящичкам, повесить этикетки, пронумеровать. А он отправился на филфак – да на русское отделение… хоть бы тут ума хватило или, как ее, дальновидности – германское выбрать! Понятно же было, что рано или поздно жить ему предстоит в германоязычной стране – неизвестно только, в какой. Но определенно в германоязычной, хоть и необязательно в немецкоязычной – пусть немецкий язык и проснулся в нем уже годам к двенадцати полностью, во всем богатстве своей изощренно тяжеловесной грамматики.
Финский же народ по-немецки, как выяснялось, почти не умел, зато по-английски более чем охотно направлял его туда, куда ему хотелось. Английский был то легкий, у молодежи, то несколько помпезный, у людей пожилых – со всеми этими would you mind и ту pleasure, но навигировать по Хельсинки – хельсинкам… песенкам, лесенкам – оказалось легко и беззаботно. Легко и беззаботно плыл он, осторожно подталкиваемый в спину ветерком, который, хоть и не говорил по-английски, но места знал не хуже аборигенов… плыл до тех пор, пока не остановился – как в землю врос: черносливовый дым. Уже?
Черносливовый дым словно накинул на него петлю, дыхание оборвалось: Калинин-вокзал-возвращение-от-дяди-Сережи-сумки-на-перроне-от-тебя-пахнет-сухофруктами-bye-bye-boy… наконец-то он разобрал эти слова – пятьдесят, значит, лет спустя. Песенка из хельсинок, из скорого поезда «Москва – Хельсинки», песенка, почти напугавшая не то изысканной своей фонетикой, не то безупречной ритмикой… тогда он и представить себе не мог, что песенка состояла из английских слов и что у слов был смысл… Он никогда в жизни не пытался их вспомнить и не думал, что это возможно. А вот – поди ж ты: вспомнил вдруг… в присутствии чернослива.