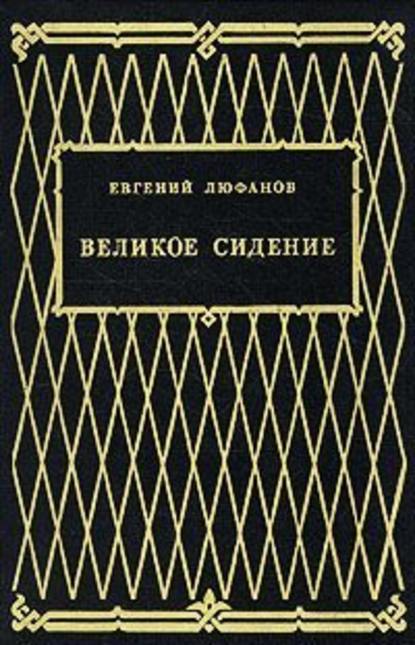По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великое сидение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На что Вяземский с усмешкою заметил:
– Хотя бы ты был и гофмейстер, – подчеркнул он последнее слово, – но все равно никого бы из нас вытолкнуть не мог потому, что мы послушные приказу светлейшего князя Александра Даниловича, а не тебе.
– Варвары, собаки, мужики, свиньи! – перечислял Нейгебауер, швырнул нож и вилку, упавшие на тарелку царевича, и схватился за шпагу.
– Что ты делаешь? – повысил на него голос Вяземский. – И хотя бы ты был гофмейстер, – нарочно выделил он опять это слово, уязвляя разбушевавшегося немца, – но и гофмейстер так не швырялся бы за столом и не бранился.
Услышав опять насмешливо сказанное слово «гофмейстер», Нейгебауер еще громче закричал:
– Собаки, собаки!.. Я вам покажу!.. Как бог мой жив, так я вам отомщу!.. – И выбежал из комнаты.
Оскорбленный, он жаловался царю, написав ему: «Гонят они меня ради веры моей и не хотят по постным дням мяса давать, но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня оклеветали, будто я по две недели сидя пью и к царевичу не хожу».
После короткого выяснения происшедшего Петр отказал Нейгебауеру от службы и велел выслать его за то, что он самовольно величал себя гофмейстером, обзывал ближних людей варварами и бранил всякой жестокой бранью.
Алексей видел отца лишь в образе сурового и раздраженного наставника, а упреки, угрозы, иногда и побои мало способствовали укреплению их родственных чувств.
Прислушиваясь к людям, осуждавшим деятельность отца, постоянно тоскуя о матери, Алексей не мог ладить ни с геометрией, ни с фортификацией, приучился скрывать это от отца, обманывать его на случайных экзаменах, говорить не то, что думалось. Когда обман вскрывался, Петр, не терпевший лжи, хватал дубинку, и жестокие побои все больше и больше убеждали сына, что без батюшки жить лучше. И если бы так случилось, чтоб его совсем, совсем не было…
Редко, но все же выпадали такие дни, когда отец садился рядом с Алексеем и, приобняв его, начинал рассказывать что-нибудь из времен своего детства, надеясь приохотить сына к делу.
– Мне о ту пору, как и тебе вот, годов тринадцать было, когда князь Яков Долгорукий на поездку во Францию снаряжался, и он мне между разными разговорами сказывал, что имелся у него такой занятный инструмент, коим можно было измерять расстояние, не доходя до отдаленного места. «Как это так?» – «А так». Я сильно пожелал увидеть такой инструмент, а князь Яков сказал, что у него его украли… Ах, если бы я в моей молодости был выучен как должно! – сожалел Петр. – Ты слушаешь, про что говорю? – спрашивал он сына, заметив, что никакого интереса к его рассказу тот не проявлял.
– Да, слушаю, – вяло отвечал Алексей.
– Ну, так слушай дальше… А мне, говорю, зело захотелось инструмент такой увидеть. Я и сказал князю, чтобы он, будучи во Франции, между другими вещами купил бы мне ту диковину. Возвратился князь и привез то самое, что я пропил. Угломером это называлось, а по-иностранному – астролябией… Никак дремлешь, сынок?
– Нет, нет, нисколь, – вздрагивал, очнувшись от мгновенного забытья, Алексей и спешно вытирал рукой заслюнявившийся рот.
– Инструмент-то я получил, – продолжал рассказывать Петр, – а как им действовать – не знаю. И князь Яков не знал. Что делать нам? Как быть?..
И нисколь, нисколь не любопытно царевичу, как с тем угломером следовало обращаться. Он нетерпеливо ждал, когда кончится для него эта мука сидеть рядом с отцом да еще все время ощущать на своем боку его широкую руку. И зачем он никуда не ушел, не уехал, а задумал вот сидеть и рассказывать.
Досказал отец, как иноземец Франц Тиммерман научил его пользоваться астролябией.
– И с того самого дня, Алешка, пристрастился я учиться геометрии и фортификации, и Франц Тиммерман стал для меня своим человеком.
«Для того, значит, и говорил, чтобы и мне эти фортификации учить, – с неприязнью думал Алексей. – Хоть бы кто его позвал…»
– А несколько времени после того случилось мне побыть в Измайлове на льняном дворе, – к вящему огорчению Алексея, стал рассказывать отец еще о каком-то случае. – И там в одном амбаре увидал я большую иноземную лодку. Спрашиваю Тиммермана: что, мол, это?.. А он говорит – английский бот, ходит на парусах не только по ветру, но и против него, чему я зело был удивлен. Есть ли, спрашиваю, человек, чтобы тот бот привел в порядок и мне весь ход его показал… мачту и паруса, и на Яузе при мне лавировал… и бот у меня не всегда хорошо ворочался, а упирался в берега… узка вода… объявили Переславское озеро, куда я, слышь, Алешка, отправился под видом обещания навестить Троицкий монастырь, – смеясь, рассказывал о своей проделке отец. – А уж потом стал просить ее и явно, чтобы отпускала бывать там… два малые фрегата и три яхты… но ради мелкости не показалось, и уже намерился видеть настоящее море…
Будто плавные волны, накатывались до сознания Алексея слова отца и, как бы в отливе, затихали они, не слышались совсем, чтобы через минуту снова, будто издали, неторопливо наплывать, и тогда опять слышал он голос отца и старался уяснить, о чем он говорил. Но вот опять, как бы отлив и ничего не слыша, Алексей сильно клюнул носом и что-то промычал сквозь дрему. Петр негодующе дернул шеей и брезгливо оттолкнул его от себя.
– Досыпай иди, несуразная тюха! – отряхнул руку от прикосновения к нему. И порывалось злобное чувство к ненавистной Евдокии: ее это сын, такой выродок!
Петр брал его с собой в Архангельск показать настоящее море и корабли, думая, что захватит мальчишку никогда не виданная новизна.
Море… А что в нем, в этом море? Только воды много, а для пути кораблям такая ширь вовсе не потребна. Ну и корабли… Идут… А ну как потонут?..
И Алексея от боязни пробирал озноб.
Рассказывал ему отец, как обучался в Голландии корабельному делу, какие ремесла сумел познать за минувшие годы.
– Спервоначалу стал обучаться делу каменщика, потом за плотницкий топор взялся, а следом и столярное мастерство стал усваивать, мог выполнять узорную резьбу и саморучно весь корабль построить. В кузницу зачастил ходить, ковал и мелкую и крупную поковку; солдатом и матросом был и там до капитана дослужился; прилюбилось в последнее время токарное ремесло; понаторел в печатном деле, да и еще, глядишь, к чему-нибудь другому пристращусь. С ремеслом человеку честь.
Алексей слушал эту отцовскую похвальбу и чувствовал, что краснеет, стыдясь внимать такому. Подмывало сказать: «Опомнился бы лучше. Ты царь, первейший и главнейший в государстве человек, а радуешься, что уподобил себя простому смерду. Вся родня возмущается этим: царицы – тетка Прасковья и тетка Марфа. Одна тетка Наталья помалкивает, то ли стерпелась, то ли ума решается, что одинаковых мыслей с тобой».
Ну уж нет, ни плотничать, ни столярничать он, царевич Алексей, не станет, каким бы соловьем ты, государь-батюшка, ни распевал об этом. До такой срамоты себя не доведет.
Еще отец в одном деле понаторел, да позабыл сказать, что мясником был, когда стрельцов рубил, да и по сей день все виноватых находит, чтоб выпускать их кровь.
Все больше Алексей дичился и страшился отца, ненавистно думал о нем.
III
После Нейгебауера воспитателем царевича стал другой немец – Гюйсен фон Генрих, доктор прав, барон, поступивший на русскую службу, чтобs нанимать иностранных мастеров для работы в России. Ученый барон составил план воспитания и образования царевича, Петр план этот одобрил, и обучение началось. Воспитатель сумел приохотить своего царственного подопечного к чтению, помогал ему овладевать немецким и французским языками, и Алексей с гордостью, прихвастнув, говорил, что пять раз прочитал Библию по-славянски и один раз по-немецки, делал выписки из особенно заинтересовавших его книг. Плохо ладил он с науками математическими и военными, а экзерциции с непременным посещением конного манежа и фехтование при любой возможности старался избегать.
Худощавый и по-мальчишески еще нескладный, с выпуклым лбом и постоянно беспокойными глазами, настороженно-жалкий или затаенно-упрямый, он обладал не очень-то крепким здоровьем, и учение, занимавшее целый день, становилось для него все изнурительнее. А к тому же в свои тринадцать-четырнадцать лет ему приходилось проходить еще и суровую школу солдата. Приписанный к бомбардирской роте он, по приказанию отца, принимал участие в военных действиях по взятию Ниеншанца, на месте которого стал потом строиться Петербург; находился в лагере войск во время решительного штурма Нарвы, но повел себя недостаточно похвально, вынудив отца при всех собравшихся в его палатке генералах строго сказать:
– Сын мой! Я взял тебя в поход показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Я сегодня или завтра могу умереть, но знай, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен любить все, что служит к благу и чести отечества, и не щадить трудов для этого. Помни, если советы мои развеет ветер, то я не признаю тебя своим сыном.
Напрасно Петр ожидал, что после такого предупреждения сын его, устыдившись своего безразличия к тому или иному исходу военных действий, захочет исправиться и проявит себя достойным солдатом. Этого не случилось. Алексей думал только о том, как было бы хорошо, ежели бы царь-государь в самом деле не считал его своим сыном! Не потребен и ему, сыну, такой отец.
После нескольких бесплодных попыток возбудить у Алексея интерес к воинскому делу он, как бесполезный, был отпущен в Москву продолжать занятия с ученым бароном, но то учение сразу же было нарушено потому, что барону пришлось срочно выезжать за границу с дипломатическими поручениями.
Находясь вдалеке, Петр на первых порах заочно – в письмах, в наказах с нарочным – требовал, чтобы сын был таким же деятельным, как он сам, поручал ему быстро распорядиться заготовкой солдатских сапог и мундиров, фуража для лошадей, без задержек принять рекрутов и своевременно доставить их куда приказывало военное начальство. Но во всех этих делах никакой расторопности Алексей не проявлял и обрел вдруг полный покой, словно о нем забыли. Царь Петр был на невских берегах, и царевич Алексей, к огромной своей радости, оказался полностью предоставленным самому себе, поселившись в подмосковном Преображенском дворце.
Некоторое время его занятием было чтение книг богословского направления. Подобно дяде, царю Федору, Алексею нравилось, что в этих книгах отражался дух старой Руси. Обленившийся, неподвижный, он был домоседом, узнавал что-либо интересное лишь из книг или из рассказов бывалых людей, а сам старался находиться подальше от сутолочной жизни. Сын и отец – такие разные в своих устремлениях – словно созданы были для того, чтобы не понимать друг друга. Да у тихого, привыкшего к домашнему покою царевича Алексея никаких устремлений и не было. Это отец не мог усидеть дома, и каждый новый день у него начинался задолго до рассвета, а сына все время одолевала сонная одурь, и он только поворачивался с боку на бок.
«Доколе же всему этому быть?.. Сын он мне или нет?..» – в раздражении думал Петр, вспоминая, что живет ведь в Москве, ничем путным не занимаясь, его незадачливый первенец, да недостойным своим поведением унижает величие отца. Терпеть такое больше нельзя. Надо приучить его к делу, заставить служить отечеству в полную меру сил и способностей. Ведь бог разума его не лишил.
Доходили до Петра сведения, в окружении каких людей находился Алексей, возмущали деяния архиереев и других церковнослужителей, сочувствующих царевичу в их общей неприязни к делам преобразования России.
Хотя и с большим опозданием, Петр решил принять срочные меры, чтобы не оставлять сына в стане своих недругов, где утверждались его враждебные чувства к нему, отцу и царю. Повседневная деятельность будет к тому же отвлекать Алексея от мыслей о матери, уведет его из круга святош, этих ханжей и изуверов.
Остается уже немного времени, чтобы ему наверстать упущенное в учении, скоро совсем выйдет из школярского возраста, а бородатого за немецкую и французскую грамматику, за фортификацию и геометрию уже не засадишь.
Одно за другим стал Алексей получать строжайшие письма от отца, чтобы как следует следил за подготовкой и отправкой нужных для войска припасов, да не смел бы и учение забывать. Решив было больше не подчиняться никаким велениям, царевич в страхе вспоминал, в какое бешенство приводили отца ослушники его воли. Припоминалось и дерганье шеей в минуты крайнего раздражения, и увесистая его дубинка. Хорошо было проявлять стойкость в непослушании отцу, когда тот находился далеко и не давал знать о себе. По плечам и по спине Алексея пробегала дрожь при мысли о неминуемой расправе, какую учинит над ним разгневанный отец при первой же встрече и начале экзамена. И чтобы унять свое смятение, заглушить тревожные мысли, Алексей прибегал к уже испытанному средству – к припасенной склянице крепкого пенника. А потом с больной от тяжкого похмелья головой, страшась, что ничего из отцовских наказов не выполнено, в ответном письме сообщал отцу печальные слова: «Памяти весьма лишен и весьма силами ослаблен от разных болезней, приключившихся в последнее время, и непотребен стал к делам».
На это последовал такой приказ: «Зоон! Объявляю вам, что по прибытии господина князя Меншикова вам ехать в Дрезден, который вас туда отправит и укажет, кому с вами ехать надлежит. Между тем приказываю вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, кои уже учишь, немецкий и французский, также геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. За сим управи бог путь ваш».
Петр посылал Алексея в Дрезден еще и для того, чтобы сблизить его с иноземцами и женить на немецкой принцессе Шарлотте Вольфенбютельской.
IV
От одного из псковских помещиков царь получил приглашение на медвежью охоту.
– Мне только этого и не хватало! – раздраженно воскликнул он. – Передай ему, – сказал кабинет-секретарю Макарову, – что у меня есть свои звери – внешние и внутренние. За пределами государства должен гоняться за отважным неприятелем, а в самом государстве – укрощать упорных подданных. Вот она, моя охота.
– Хотя бы ты был и гофмейстер, – подчеркнул он последнее слово, – но все равно никого бы из нас вытолкнуть не мог потому, что мы послушные приказу светлейшего князя Александра Даниловича, а не тебе.
– Варвары, собаки, мужики, свиньи! – перечислял Нейгебауер, швырнул нож и вилку, упавшие на тарелку царевича, и схватился за шпагу.
– Что ты делаешь? – повысил на него голос Вяземский. – И хотя бы ты был гофмейстер, – нарочно выделил он опять это слово, уязвляя разбушевавшегося немца, – но и гофмейстер так не швырялся бы за столом и не бранился.
Услышав опять насмешливо сказанное слово «гофмейстер», Нейгебауер еще громче закричал:
– Собаки, собаки!.. Я вам покажу!.. Как бог мой жив, так я вам отомщу!.. – И выбежал из комнаты.
Оскорбленный, он жаловался царю, написав ему: «Гонят они меня ради веры моей и не хотят по постным дням мяса давать, но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня оклеветали, будто я по две недели сидя пью и к царевичу не хожу».
После короткого выяснения происшедшего Петр отказал Нейгебауеру от службы и велел выслать его за то, что он самовольно величал себя гофмейстером, обзывал ближних людей варварами и бранил всякой жестокой бранью.
Алексей видел отца лишь в образе сурового и раздраженного наставника, а упреки, угрозы, иногда и побои мало способствовали укреплению их родственных чувств.
Прислушиваясь к людям, осуждавшим деятельность отца, постоянно тоскуя о матери, Алексей не мог ладить ни с геометрией, ни с фортификацией, приучился скрывать это от отца, обманывать его на случайных экзаменах, говорить не то, что думалось. Когда обман вскрывался, Петр, не терпевший лжи, хватал дубинку, и жестокие побои все больше и больше убеждали сына, что без батюшки жить лучше. И если бы так случилось, чтоб его совсем, совсем не было…
Редко, но все же выпадали такие дни, когда отец садился рядом с Алексеем и, приобняв его, начинал рассказывать что-нибудь из времен своего детства, надеясь приохотить сына к делу.
– Мне о ту пору, как и тебе вот, годов тринадцать было, когда князь Яков Долгорукий на поездку во Францию снаряжался, и он мне между разными разговорами сказывал, что имелся у него такой занятный инструмент, коим можно было измерять расстояние, не доходя до отдаленного места. «Как это так?» – «А так». Я сильно пожелал увидеть такой инструмент, а князь Яков сказал, что у него его украли… Ах, если бы я в моей молодости был выучен как должно! – сожалел Петр. – Ты слушаешь, про что говорю? – спрашивал он сына, заметив, что никакого интереса к его рассказу тот не проявлял.
– Да, слушаю, – вяло отвечал Алексей.
– Ну, так слушай дальше… А мне, говорю, зело захотелось инструмент такой увидеть. Я и сказал князю, чтобы он, будучи во Франции, между другими вещами купил бы мне ту диковину. Возвратился князь и привез то самое, что я пропил. Угломером это называлось, а по-иностранному – астролябией… Никак дремлешь, сынок?
– Нет, нет, нисколь, – вздрагивал, очнувшись от мгновенного забытья, Алексей и спешно вытирал рукой заслюнявившийся рот.
– Инструмент-то я получил, – продолжал рассказывать Петр, – а как им действовать – не знаю. И князь Яков не знал. Что делать нам? Как быть?..
И нисколь, нисколь не любопытно царевичу, как с тем угломером следовало обращаться. Он нетерпеливо ждал, когда кончится для него эта мука сидеть рядом с отцом да еще все время ощущать на своем боку его широкую руку. И зачем он никуда не ушел, не уехал, а задумал вот сидеть и рассказывать.
Досказал отец, как иноземец Франц Тиммерман научил его пользоваться астролябией.
– И с того самого дня, Алешка, пристрастился я учиться геометрии и фортификации, и Франц Тиммерман стал для меня своим человеком.
«Для того, значит, и говорил, чтобы и мне эти фортификации учить, – с неприязнью думал Алексей. – Хоть бы кто его позвал…»
– А несколько времени после того случилось мне побыть в Измайлове на льняном дворе, – к вящему огорчению Алексея, стал рассказывать отец еще о каком-то случае. – И там в одном амбаре увидал я большую иноземную лодку. Спрашиваю Тиммермана: что, мол, это?.. А он говорит – английский бот, ходит на парусах не только по ветру, но и против него, чему я зело был удивлен. Есть ли, спрашиваю, человек, чтобы тот бот привел в порядок и мне весь ход его показал… мачту и паруса, и на Яузе при мне лавировал… и бот у меня не всегда хорошо ворочался, а упирался в берега… узка вода… объявили Переславское озеро, куда я, слышь, Алешка, отправился под видом обещания навестить Троицкий монастырь, – смеясь, рассказывал о своей проделке отец. – А уж потом стал просить ее и явно, чтобы отпускала бывать там… два малые фрегата и три яхты… но ради мелкости не показалось, и уже намерился видеть настоящее море…
Будто плавные волны, накатывались до сознания Алексея слова отца и, как бы в отливе, затихали они, не слышались совсем, чтобы через минуту снова, будто издали, неторопливо наплывать, и тогда опять слышал он голос отца и старался уяснить, о чем он говорил. Но вот опять, как бы отлив и ничего не слыша, Алексей сильно клюнул носом и что-то промычал сквозь дрему. Петр негодующе дернул шеей и брезгливо оттолкнул его от себя.
– Досыпай иди, несуразная тюха! – отряхнул руку от прикосновения к нему. И порывалось злобное чувство к ненавистной Евдокии: ее это сын, такой выродок!
Петр брал его с собой в Архангельск показать настоящее море и корабли, думая, что захватит мальчишку никогда не виданная новизна.
Море… А что в нем, в этом море? Только воды много, а для пути кораблям такая ширь вовсе не потребна. Ну и корабли… Идут… А ну как потонут?..
И Алексея от боязни пробирал озноб.
Рассказывал ему отец, как обучался в Голландии корабельному делу, какие ремесла сумел познать за минувшие годы.
– Спервоначалу стал обучаться делу каменщика, потом за плотницкий топор взялся, а следом и столярное мастерство стал усваивать, мог выполнять узорную резьбу и саморучно весь корабль построить. В кузницу зачастил ходить, ковал и мелкую и крупную поковку; солдатом и матросом был и там до капитана дослужился; прилюбилось в последнее время токарное ремесло; понаторел в печатном деле, да и еще, глядишь, к чему-нибудь другому пристращусь. С ремеслом человеку честь.
Алексей слушал эту отцовскую похвальбу и чувствовал, что краснеет, стыдясь внимать такому. Подмывало сказать: «Опомнился бы лучше. Ты царь, первейший и главнейший в государстве человек, а радуешься, что уподобил себя простому смерду. Вся родня возмущается этим: царицы – тетка Прасковья и тетка Марфа. Одна тетка Наталья помалкивает, то ли стерпелась, то ли ума решается, что одинаковых мыслей с тобой».
Ну уж нет, ни плотничать, ни столярничать он, царевич Алексей, не станет, каким бы соловьем ты, государь-батюшка, ни распевал об этом. До такой срамоты себя не доведет.
Еще отец в одном деле понаторел, да позабыл сказать, что мясником был, когда стрельцов рубил, да и по сей день все виноватых находит, чтоб выпускать их кровь.
Все больше Алексей дичился и страшился отца, ненавистно думал о нем.
III
После Нейгебауера воспитателем царевича стал другой немец – Гюйсен фон Генрих, доктор прав, барон, поступивший на русскую службу, чтобs нанимать иностранных мастеров для работы в России. Ученый барон составил план воспитания и образования царевича, Петр план этот одобрил, и обучение началось. Воспитатель сумел приохотить своего царственного подопечного к чтению, помогал ему овладевать немецким и французским языками, и Алексей с гордостью, прихвастнув, говорил, что пять раз прочитал Библию по-славянски и один раз по-немецки, делал выписки из особенно заинтересовавших его книг. Плохо ладил он с науками математическими и военными, а экзерциции с непременным посещением конного манежа и фехтование при любой возможности старался избегать.
Худощавый и по-мальчишески еще нескладный, с выпуклым лбом и постоянно беспокойными глазами, настороженно-жалкий или затаенно-упрямый, он обладал не очень-то крепким здоровьем, и учение, занимавшее целый день, становилось для него все изнурительнее. А к тому же в свои тринадцать-четырнадцать лет ему приходилось проходить еще и суровую школу солдата. Приписанный к бомбардирской роте он, по приказанию отца, принимал участие в военных действиях по взятию Ниеншанца, на месте которого стал потом строиться Петербург; находился в лагере войск во время решительного штурма Нарвы, но повел себя недостаточно похвально, вынудив отца при всех собравшихся в его палатке генералах строго сказать:
– Сын мой! Я взял тебя в поход показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Я сегодня или завтра могу умереть, но знай, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен любить все, что служит к благу и чести отечества, и не щадить трудов для этого. Помни, если советы мои развеет ветер, то я не признаю тебя своим сыном.
Напрасно Петр ожидал, что после такого предупреждения сын его, устыдившись своего безразличия к тому или иному исходу военных действий, захочет исправиться и проявит себя достойным солдатом. Этого не случилось. Алексей думал только о том, как было бы хорошо, ежели бы царь-государь в самом деле не считал его своим сыном! Не потребен и ему, сыну, такой отец.
После нескольких бесплодных попыток возбудить у Алексея интерес к воинскому делу он, как бесполезный, был отпущен в Москву продолжать занятия с ученым бароном, но то учение сразу же было нарушено потому, что барону пришлось срочно выезжать за границу с дипломатическими поручениями.
Находясь вдалеке, Петр на первых порах заочно – в письмах, в наказах с нарочным – требовал, чтобы сын был таким же деятельным, как он сам, поручал ему быстро распорядиться заготовкой солдатских сапог и мундиров, фуража для лошадей, без задержек принять рекрутов и своевременно доставить их куда приказывало военное начальство. Но во всех этих делах никакой расторопности Алексей не проявлял и обрел вдруг полный покой, словно о нем забыли. Царь Петр был на невских берегах, и царевич Алексей, к огромной своей радости, оказался полностью предоставленным самому себе, поселившись в подмосковном Преображенском дворце.
Некоторое время его занятием было чтение книг богословского направления. Подобно дяде, царю Федору, Алексею нравилось, что в этих книгах отражался дух старой Руси. Обленившийся, неподвижный, он был домоседом, узнавал что-либо интересное лишь из книг или из рассказов бывалых людей, а сам старался находиться подальше от сутолочной жизни. Сын и отец – такие разные в своих устремлениях – словно созданы были для того, чтобы не понимать друг друга. Да у тихого, привыкшего к домашнему покою царевича Алексея никаких устремлений и не было. Это отец не мог усидеть дома, и каждый новый день у него начинался задолго до рассвета, а сына все время одолевала сонная одурь, и он только поворачивался с боку на бок.
«Доколе же всему этому быть?.. Сын он мне или нет?..» – в раздражении думал Петр, вспоминая, что живет ведь в Москве, ничем путным не занимаясь, его незадачливый первенец, да недостойным своим поведением унижает величие отца. Терпеть такое больше нельзя. Надо приучить его к делу, заставить служить отечеству в полную меру сил и способностей. Ведь бог разума его не лишил.
Доходили до Петра сведения, в окружении каких людей находился Алексей, возмущали деяния архиереев и других церковнослужителей, сочувствующих царевичу в их общей неприязни к делам преобразования России.
Хотя и с большим опозданием, Петр решил принять срочные меры, чтобы не оставлять сына в стане своих недругов, где утверждались его враждебные чувства к нему, отцу и царю. Повседневная деятельность будет к тому же отвлекать Алексея от мыслей о матери, уведет его из круга святош, этих ханжей и изуверов.
Остается уже немного времени, чтобы ему наверстать упущенное в учении, скоро совсем выйдет из школярского возраста, а бородатого за немецкую и французскую грамматику, за фортификацию и геометрию уже не засадишь.
Одно за другим стал Алексей получать строжайшие письма от отца, чтобы как следует следил за подготовкой и отправкой нужных для войска припасов, да не смел бы и учение забывать. Решив было больше не подчиняться никаким велениям, царевич в страхе вспоминал, в какое бешенство приводили отца ослушники его воли. Припоминалось и дерганье шеей в минуты крайнего раздражения, и увесистая его дубинка. Хорошо было проявлять стойкость в непослушании отцу, когда тот находился далеко и не давал знать о себе. По плечам и по спине Алексея пробегала дрожь при мысли о неминуемой расправе, какую учинит над ним разгневанный отец при первой же встрече и начале экзамена. И чтобы унять свое смятение, заглушить тревожные мысли, Алексей прибегал к уже испытанному средству – к припасенной склянице крепкого пенника. А потом с больной от тяжкого похмелья головой, страшась, что ничего из отцовских наказов не выполнено, в ответном письме сообщал отцу печальные слова: «Памяти весьма лишен и весьма силами ослаблен от разных болезней, приключившихся в последнее время, и непотребен стал к делам».
На это последовал такой приказ: «Зоон! Объявляю вам, что по прибытии господина князя Меншикова вам ехать в Дрезден, который вас туда отправит и укажет, кому с вами ехать надлежит. Между тем приказываю вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, кои уже учишь, немецкий и французский, также геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. За сим управи бог путь ваш».
Петр посылал Алексея в Дрезден еще и для того, чтобы сблизить его с иноземцами и женить на немецкой принцессе Шарлотте Вольфенбютельской.
IV
От одного из псковских помещиков царь получил приглашение на медвежью охоту.
– Мне только этого и не хватало! – раздраженно воскликнул он. – Передай ему, – сказал кабинет-секретарю Макарову, – что у меня есть свои звери – внешние и внутренние. За пределами государства должен гоняться за отважным неприятелем, а в самом государстве – укрощать упорных подданных. Вот она, моя охота.