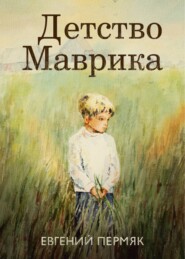По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На все цвета радуги (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как тебе не стыдно, Марфа, моего недотёпу Кольку героем выставлять! – И, повернувшись, наотрез отказалась взять гусака.
Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать ушла на станцию, к фельдшеру. Сказала, что угорела – болит голова.
С бабушкой мне всегда было легко и просто.
Я спросил её:
– Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие нестоящие?
– Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – Мать всю ночь не спала. Ревела как умалишённая… С собакой по степи вас искала. Колени обморозила… Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я её люблю…
Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке:
– Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц пройдёт.
Я бросился к матери и обнял её ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда ещё не был так ласков с нею. Я никогда ещё так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.
А она всего лишь, как бы между прочим, будто телёнка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно.
В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше говорить о себе.
Набольший
В деревне Карасинской я не был года три. Меня переводили под Славгород. А потом я вновь вернулся в знакомую деревеньку и снова поселился у Тычкиных.
Тычкины меня приняли как родного. И мне было радостно встретиться с этой крепкой, старожильской сибирской семьёй. Разговаривая о том о сём, старуха спросила меня:
– А шапку-то хоть нажил там?
– Нажил, – ответил я, – да прожил. Заячья была. Износилась.
– Корсачью надо. Тебе этот мех к лицу, – посоветовала невестка Тычкиных Настя. – Споймал бы корсачка, вот тебе и треушок.
– Да как я его поймаю? Это ведь хитрый зверь.
– А ты его выдыми – да сеткой. Мой набольший тебя научит, – сказала Настя, – как корсаков из нор дымом выгонять.
– Да сколько же лет теперь твоему набольшему?
– Порядком уж. Мужик в полную силу. Десятый год Стёпе на той неделе пошёл.
– Ну, тогда нечего и говорить, – согласился я с тем же юмором без улыбки, какой свойствен был Тычкиным да, впрочем, многим сибирякам.
… И мне вспомнился дождливый осенний день. В луже посреди двора стоял Стёпка. Он был в одной короткой рубашонке и в сапогах.
Стёпочка, размахивая кнутом, сражался с драчливым петухом. Петух набрасывался на него, а Стёпа, стоя посреди лужи, был защищён водой. Озлобленный петух забежит в лужу по шпорину – и с криком обратно. А мальчик тем временем успевает стегнуть кнутом петуха. Птица с криком взлетает и снова предпринимает атаку. А Стёпа смеётся, дразнит петуха. Его синие глазёнки горят воинственным задором. Ветер раздувает удивительно белые и тонкие волосы. Он без штанов. Ножонки его порозовели на холодном ветру. На голени заметна царапина – петух успел изловчиться и поранил противника…
Птица снова с криком переходит в наступление и, поскользнувшись, оказывается в луже. Мокрый и обескураженный, петух даёт тягу.
Стёпочка звонко хохочет. Смеётся и счастливая мать, тайно вместе со мной наблюдавшая из окна сцену боя драчливого петуха с её сыном.
Стёпу зовут домой. Моют в корыте. Он капризничает. Скандалит. Жалуется на мыло, попавшее в глаза. Потом пьёт тёплое молоко и укладывается спать.
… И вот теперь, спустя три года, вошёл в горницу крупный розовощёкий парень. В плисовых штанах, заправленных в сапоги. В вышитой косоворотке. Он не узнал меня – забыл. Но сказал:
– Здорово живём!
Я поздоровался с ним и спросил:
– Правда ли, Степан, что ты корсаков можешь выдымливать?
– Могу, да дельных напарников нет. Им бы торопиться только. А зверя с умом выдымливать надо. Ждать.
– Это верно, – согласился я. – Ты меня возьми.
– А чем дымить у тебя есть? Своё дымило я на два капканчика променял.
– Найдём, Стёпа! Найти бы нору…
– Эка невидаль! Я их штук пять заприметил. Хоть одна-то из них будет не пустая.
– Не может иначе и быть, – со всей серьёзностью подтвердил я. – Значит, по рукам?
– По рукам, – сказал Стёпа и попросил у бабушки есть.
Ел он тоже солидно, аккуратно, не роняя крошек, как бабушка учила. Не залюбоваться таким парнем – значит ничего не понимать в детях.
Дымило я нашёл. Оно ничем не отличалось от дымарки, какой обычно окуривают пчёл. Разница была лишь в наконечнике в виде изогнутой трубки, которая вставлялась в нору.
Мы вышли в степь утром. Я нёс дымило, а Стёпа – сетку с обручем. Даже две.
Перевалив невысокую гриву, мы оказались на пустынной целине.
– Это самое корсачье место, – предупредил меня Стёпа. – Бросай курить, Фёдор. Они, как кержаки, дыму не любят.
Стёпа шёл точно к норе и, когда подвёл меня к ней, тихо сказал:
– Это первая. Ищи выходы. Выход у них не один.
До этого я знал, что корсаки, как и лисы, вырывая нору, делают несколько выходов на случай опасности. Вскоре я их нашёл два, кроме главного, который Стёпа называл «большими воротами».
На выходы были положены сетки с обручами. Сетки Стёпа распёр и приподнял стеблями полыни, чтобы корсак, выскочив, не встретил препятствия. Обручи сеток Стёпа прикрепил дужками из толстой проволоки.
– А теперь давай забивать этот ход, который ты не приметил, – указал он на третий выход норы, вовсе не щеголяя своим охотничьим превосходством.
Этот ход мы забили сухими стеблями, землёй, затем Стёпа велел «для крепости заступить его лопатой». Наступив на главный вход норы, на «большие ворота», мой набольший разрешил мне курить и велел раздувать дымило.
Я положил в дымило трут, поджёг его, навалил углей и стал раздувать. Когда угли разгорелись, Стёпа принялся класть в дымило куски кизяка, тряпьё, которое, по его выражению, «дымит куда как ядовито». Затем всё это он посыпал «горючей серой», потом сказал:
Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать ушла на станцию, к фельдшеру. Сказала, что угорела – болит голова.
С бабушкой мне всегда было легко и просто.
Я спросил её:
– Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие нестоящие?
– Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – Мать всю ночь не спала. Ревела как умалишённая… С собакой по степи вас искала. Колени обморозила… Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я её люблю…
Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке:
– Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц пройдёт.
Я бросился к матери и обнял её ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда ещё не был так ласков с нею. Я никогда ещё так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.
А она всего лишь, как бы между прочим, будто телёнка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно.
В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше говорить о себе.
Набольший
В деревне Карасинской я не был года три. Меня переводили под Славгород. А потом я вновь вернулся в знакомую деревеньку и снова поселился у Тычкиных.
Тычкины меня приняли как родного. И мне было радостно встретиться с этой крепкой, старожильской сибирской семьёй. Разговаривая о том о сём, старуха спросила меня:
– А шапку-то хоть нажил там?
– Нажил, – ответил я, – да прожил. Заячья была. Износилась.
– Корсачью надо. Тебе этот мех к лицу, – посоветовала невестка Тычкиных Настя. – Споймал бы корсачка, вот тебе и треушок.
– Да как я его поймаю? Это ведь хитрый зверь.
– А ты его выдыми – да сеткой. Мой набольший тебя научит, – сказала Настя, – как корсаков из нор дымом выгонять.
– Да сколько же лет теперь твоему набольшему?
– Порядком уж. Мужик в полную силу. Десятый год Стёпе на той неделе пошёл.
– Ну, тогда нечего и говорить, – согласился я с тем же юмором без улыбки, какой свойствен был Тычкиным да, впрочем, многим сибирякам.
… И мне вспомнился дождливый осенний день. В луже посреди двора стоял Стёпка. Он был в одной короткой рубашонке и в сапогах.
Стёпочка, размахивая кнутом, сражался с драчливым петухом. Петух набрасывался на него, а Стёпа, стоя посреди лужи, был защищён водой. Озлобленный петух забежит в лужу по шпорину – и с криком обратно. А мальчик тем временем успевает стегнуть кнутом петуха. Птица с криком взлетает и снова предпринимает атаку. А Стёпа смеётся, дразнит петуха. Его синие глазёнки горят воинственным задором. Ветер раздувает удивительно белые и тонкие волосы. Он без штанов. Ножонки его порозовели на холодном ветру. На голени заметна царапина – петух успел изловчиться и поранил противника…
Птица снова с криком переходит в наступление и, поскользнувшись, оказывается в луже. Мокрый и обескураженный, петух даёт тягу.
Стёпочка звонко хохочет. Смеётся и счастливая мать, тайно вместе со мной наблюдавшая из окна сцену боя драчливого петуха с её сыном.
Стёпу зовут домой. Моют в корыте. Он капризничает. Скандалит. Жалуется на мыло, попавшее в глаза. Потом пьёт тёплое молоко и укладывается спать.
… И вот теперь, спустя три года, вошёл в горницу крупный розовощёкий парень. В плисовых штанах, заправленных в сапоги. В вышитой косоворотке. Он не узнал меня – забыл. Но сказал:
– Здорово живём!
Я поздоровался с ним и спросил:
– Правда ли, Степан, что ты корсаков можешь выдымливать?
– Могу, да дельных напарников нет. Им бы торопиться только. А зверя с умом выдымливать надо. Ждать.
– Это верно, – согласился я. – Ты меня возьми.
– А чем дымить у тебя есть? Своё дымило я на два капканчика променял.
– Найдём, Стёпа! Найти бы нору…
– Эка невидаль! Я их штук пять заприметил. Хоть одна-то из них будет не пустая.
– Не может иначе и быть, – со всей серьёзностью подтвердил я. – Значит, по рукам?
– По рукам, – сказал Стёпа и попросил у бабушки есть.
Ел он тоже солидно, аккуратно, не роняя крошек, как бабушка учила. Не залюбоваться таким парнем – значит ничего не понимать в детях.
Дымило я нашёл. Оно ничем не отличалось от дымарки, какой обычно окуривают пчёл. Разница была лишь в наконечнике в виде изогнутой трубки, которая вставлялась в нору.
Мы вышли в степь утром. Я нёс дымило, а Стёпа – сетку с обручем. Даже две.
Перевалив невысокую гриву, мы оказались на пустынной целине.
– Это самое корсачье место, – предупредил меня Стёпа. – Бросай курить, Фёдор. Они, как кержаки, дыму не любят.
Стёпа шёл точно к норе и, когда подвёл меня к ней, тихо сказал:
– Это первая. Ищи выходы. Выход у них не один.
До этого я знал, что корсаки, как и лисы, вырывая нору, делают несколько выходов на случай опасности. Вскоре я их нашёл два, кроме главного, который Стёпа называл «большими воротами».
На выходы были положены сетки с обручами. Сетки Стёпа распёр и приподнял стеблями полыни, чтобы корсак, выскочив, не встретил препятствия. Обручи сеток Стёпа прикрепил дужками из толстой проволоки.
– А теперь давай забивать этот ход, который ты не приметил, – указал он на третий выход норы, вовсе не щеголяя своим охотничьим превосходством.
Этот ход мы забили сухими стеблями, землёй, затем Стёпа велел «для крепости заступить его лопатой». Наступив на главный вход норы, на «большие ворота», мой набольший разрешил мне курить и велел раздувать дымило.
Я положил в дымило трут, поджёг его, навалил углей и стал раздувать. Когда угли разгорелись, Стёпа принялся класть в дымило куски кизяка, тряпьё, которое, по его выражению, «дымит куда как ядовито». Затем всё это он посыпал «горючей серой», потом сказал: