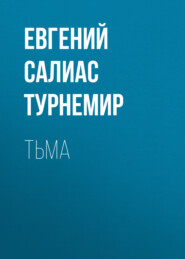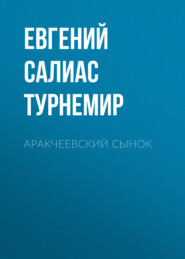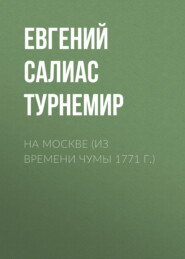По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ширь и мах (Миллион)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет. Разыскивать, чтобы обмануть, я не стал. Я как отчаянный поехал назад в Россию и порешил броситься вам в ноги и все пояснить по сущей правде.
– И лучше бы всего сделал.
– Да, но раздумье меня одолело! Ведь сватовство вами было обещано за привоз маркиза. Вы изволили обещать быть у меня посаженым за привоз музыканта. А тут я с пустыми руками. Вы бы меня простили и оставили, может, при себе, но сватать бы не стали меня… Не за что было бы…
– Верно.
– Вот и уехал я, и пустился в обратный путь в самом горестном состоянье. Миновал я кое-как Польское королевство, где претерпел всякие утеснения в качестве вашего гонца. Два раза меня заарестовывали и обыскивали в надежде найти на мне какие-либо любопытные депеши вашей светлости… Доехал я затем спокойно до города Вильны… Тут меня лукавый и попутал… Вот я и виноват теперь еще пуще и горше.
– Так маркиз-то твой – поляк? – спросил князь.
– Наполовину. Даже меньше того. Да он все… Он и поляк, и немец, и венгерец…
– Ну… Угостил ты меня! Отблагодарил! Угостил. Спасибо… Продолжай…
И голос князя зазвучал снова грозно.
Офицер продолжал.
Бродя по улицам Вильны, он случайно набрел на домик, из которого раздавались восхитительные звуки. Кто-то играл на скрипке.
Долго простоял Брусков около этого домика, точно пригвожденный к земле. Это дьявольское наваждение было. Враг человеческий захотел его погубить и толкал в дом музыканта, науськивал офицера звать и везти его в Россию вместо француза. Так он и сделал. Познакомившись с музыкантом, который оказался бедняком, по фамилии Шмитгоф, Брусков, без труда, в один день, уговорил его ехать и назваться маркизом Морельеном.
– Я полагал, ваша светлость, – закончил Брусков, – что вы, повидая музыканта, заставите его, любопытства ради, сыграть и, наградив, отпустите восвояси… И полагал я – всем оттого только хорошее будет. Вам послушать хорошего музыканта, мне быть женату, а бедняку Шмитгофу разжиться. Не думал я, что так выйдет, что и до матушки царицы дойдет и коснется мой предерзостный обман…
Брусков замолчал. Молчанье длилось долго.
– Простите… – лепетал Брусков. – Жизнью своей готов искупить прощение…
– Жизнью? Все вы одно заладили… Что мне из твоей жизни? Что я из твоей жизни сделаю? – Князь перешел к письменному столу и собрался писать.
Он взял лист бумаги, написал несколько слов и, подписавшись с росчерком, бросил бумагу через стол на пол…
– Бери! Собирайся в дорогу.
Брусков поднял лист, глянул, и сердце екнуло в нем.
– Прочти!
Офицер прочел бумагу…
Это было предписание коменданту Шлиссельбургской крепости арестовать подателя сего и немедленно заключить в свободную камеру, отдельно от прочих, впредь до нового распоряжения.
Брусков затрясся всем телом и начал всхлипывать.
– Помилосердуйте!.. – прохрипел он, захлебываясь от рыданий. – Помилосерд…
– Слушай!.. Ты с жидом вырядил меня в дураки. Если удастся мне ныне снять с себя сие одеяние, мало мне приличествующее, то я тебя выпущу, но на глаза к себе не пущу. Если не потрафится мне, не выгорит, то сиди в Шлюссе, кайся и чулки, что ль, вяжи. Но это еще не все. Ты должен отправляться тотчас, не видавшись на с кем и никому не объясняя, за что ты наказуем. Если твой христопродавец узнает, что я его раскусил, – то тебе худо будет. Никому ни единого слова… Понял?
Брусков прохрипел что-то чуть слышно.
– Ну, ступай и моли Бога в своей келье ежедневно и еженощно за свой обман.
XIII
А в то же утро музыкант-виртуоз и не чуял, какая беда стряхивалась на его приятеля и какая гроза надвигалась и на него, самозванца, по ребяческой беззаботности и смелости. Музыкант не чувствовал себя виноватым ни пред кем, и совесть его была не только совершенно спокойна, но он даже восхищался своей предприимчивостью.
Молодой и красивый, талантливый и даровитый, но полуграмотный и невоспитанный артист-музыкант был, собственно, дитя малое, доброе и неразумное, но с искрой Божьей в душе.
Когда он держал скрипку и смычок в руках и, опустив глаза в землю, как бы умирал для всего окружающего мира и возрождался вновь в мире звуков, в мире иных, высших помыслов и чувств, а не обыденных людских похотей и вожделений – он перерождался… Он чуял, что в нем есть что-то, чего нет у них у всех… Когда же его скрипка и смычок лежали в своем футляре под ключом – и дивные звуки не хотели ни улечься в футляре около скрипки, ни умоститься на сердце или в голове виртуоза и прельщать оттуда людей. Они таинственной невидимкой скрывались и витали в мире Божием, в ожидании, что их вновь вызовут и исторгнут из струн, натянутых на какой-то деревянной коробке, – за это время творец дивных ощущений был простой бедняк, который плотно ел, напивался, как губка, и спал сном праведников.
Самородок и самоучка – Юзеф Шмитгоф сказывался то немцем, то поляком, но в действительности был еврей. Отец его, портной и часовщик вместе, неизвестно когда перебрался в Вильно из своего родного города Франнфурта-на-Майне и тотчас перешел в католицизм и стал верноподданным королей польских вместе с женой и двумя детьми.
Авраам Шмитгоф был если не виртуоз на каком-либо инструменте, то был истинный виртуоз в создании своего благополучия, общественного положения, состояния…
Недолго он кроил и чинил кафтаны и камзолы или разбирал и чинил часы и орложи
(#c_43) пановей и паней виленских… Через десять лет он был любимцем могущественного магната князя Радзивилла
(#c_44) и, справив ему много тайных и важных поручений, получил в награду патент на капитана и стал, стало быть, шляхтич или дворянин. Именитый и щедрый крез своего времени «пане коханку» произвел в дворяне, пользуясь своим правом князя Священной Римской империи, такое многое множество, что капитан Шмитгоф был явление заурядное. Главный надзиратель над охотой и псарней князя был из прирожденных крымских татар, привезенный Радзивиллу еще татарчонком, стал затем шляхтичем и, наконец, за три тысячи гульденов – и бароном, по патенту владетельного князя Гольштейн-Штирумского.
При смуте и беэурядице во всем королевстве, благодаря тому, что магнаты не хотели признать королем посаженного им насильно на престол дворянина Станислава Понятовского,
(#c_45) – всякий пронырливый и ловкий авантюрист и проходимец мог быстро выйти в люди, разбогатеть и иметь даже известное значение.
Авраам Шмитгоф, капитан и шляхтич, по природе юркий, умный, хитрый и дерзкий, горячо служил делу Радзивилла и его единомышленников… Но в политике он понимал мало и не понял того, что совершалось в королевстве, и того, что должно внезапно совершиться.
Наступил первый раздел.
(#c_46)
Вильна стала не Польшей, а Россией, и Шмитгоф очутился вдруг русским подданным…
Еще горячее стал он слушаться и служить верой и правдой Радзивиллу и его соучастникам в огромном предприятии освобождения Литвы от москалей.
Но через два года Радзивилл почти бежал за границу в Италию, доходы с его громадных поместьев были секвестрованы русским правительством, да и самые поместья рисковали перейти к Понятовскому в награду.
Шмитгоф остался в Литве и служил делу Радзивилла честно, неутомимо и горячо, как бы не еврей из Франкфурта, а природный шляхтич, поляк.
И в один ненастный осенний вечер Шмитгоф был схвачен, закован в кандалы русскими солдатами и отправлен в путь… Путь продолжался 14 месяцев. Он очутился среди камчадалов!.. Еще бы два месяца пропутешествовать ему – и он очутился бы в самой свободной стране мира – в новых Соединенных Штатах Америки! Но солдаты, везшие его в ссылку, дальше крайнего берега Камчатки не поехали, вероятно предполагая, что тут и конец миру, а вернее потому, что начальство не приказало.
Что сталось с Авраамом – жена его и сын Юзеф не знали. Отец однажды вечером приказал им приготовить себе теплого питья из яблоков от простуды и вышел из дому, чтобы вернуться через полчаса… Тут-то он и поехал в кандалах к камчадалам… С этого дня о нем не было прямых известий. Его считали и утонувшим, и бежавшим, и убитым, до тех пор, пока такие же солдаты не выгнали женщину с сыном из ее дома, отобрав все в казну русского начальства. Тут узнали они, что муж и отец – шпион и изменник отечеству.
И двенадцатилетний Юзеф с больной, пораженной горем матерью очутился на улице, без куска хлеба.
Надо было подумать, как заработать себе пропитание. Мать поступила в богатый дом ключницей-экономкой, а сына отдала на хлеба к музыканту, так как он любил до страсти музыку. Юзеф стал наполовину учеником, наполовину прислугой. Он убирал горницу музыканта за его отсутствие, носил ему его контрабас, когда тот отправлялся играть на гуляньях или на вечерах – но вместе с тем он учился и сам играть. Бросив вскоре контрабас и взявшись за скрипку, молодой Шмитгоф за один год пылкой, неустанной работы сделался замечательным скрипачом и четырнадцати лет был уже приглашен на жалованье в городской оркестр. Жалованье было ничтожное, но мать могла теперь покинуть свое место в чужом доме, где с ней обращались дурно, и поселиться вместе с сыном.
Недолго прожила больная женщина. Скоро Шмитгоф остался один-одинехонек на свете. Заработок был скудный, а он любил иногда кутнуть со сверстниками, любил вино, любил немного и картежную игру… был поклонник прекрасного пола, у которого имел успех.