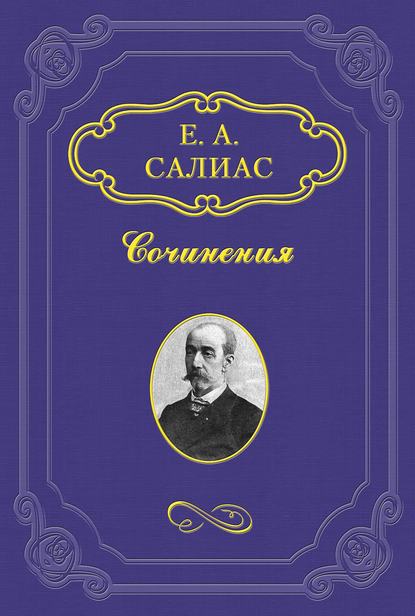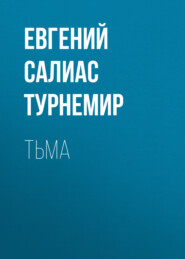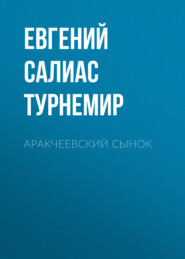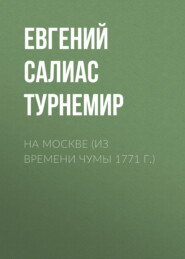По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский подкидыш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Можно, можно. Поезжайте в Петербург, старайтесь, действуйте. Вы умный человек. Все может поправиться. Не опасайтесь только, а веруйте. На барона не смотрите. Он обожает свое детище.
Шумский глубоко задумался и пришел в себя от слов Пашуты, которые она тщетно уже третий раз произносила:
– Отпустите меня.
– Ступай, – выговорил он наконец. – Но помни, Пашута, что от меня ничего не узнает ни Настасья Федоровна, ни граф. Я не хочу тебе мстить. Бог с тобой.
– Все равно конец мой в Гру?зине плохой будет, – отозвалась девушка грустно. – Я знаю, чую это..
XI
Шумский плохо спал ночь. Объяснение с Пашутой сильно взволновало его, и он сто раз пожалел, что ранее, еще в Петербурге, не виделся с ней и не переговорил. Впрочем, он понимал, что тогда подобного разговора и быть между ними не могло. Там он был еще озлоблен на девушку и собирался в наказание предать ее в руки Настасьи. Если Пашута теперь заговорила, высказалась, то, разумеется, потому что он ласково объяснился с ней.
Когда-то в Петербурге заявление Квашнина насчет баронессы, после его визита к Нейдшильду, мало утешило Шумского. Мнение Квашнина, что Ева любит его, основывалось лишь на одной фразе барона. Высказанное теперь Пашутой имело, конечно, гораздо большее значение. Девушка была любимицей, почти приятельницей Евы. Она не могла не знать истины, а должна была действительно знать больше, чем сама детски простодушная, наивная Ева.
Всю ночь Шумский среди беспокойного сна, в полудремоте, видел «Серебряную Царевну», и она говорила ему, что любит его. Приходя в себя, Шумский по нескольку раз задавал себе вопрос: «Неужели это правда? Неужели все может еще устроиться?» Под утро он заснул крепким сном отдохнувшего или нравственно умиротворенного человека.
Проснувшись очень поздно, перед полуднем, Шумский с изумлением огляделся кругом себя и удивился, что он в Гру?зине. Он видел что-то во сне, чего вспомнить не мог, но оно очевидно, уносило мысли его на край света от Гру?зина. Он должен был сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, зачем он здесь, что привело его в «логовище зверя», как иногда называл он Гру?зино.
Вспомнив, что он приехал мстить, Шумский задал себе вопрос: «Что же будет?» Неужели зверь простит эту проклятую бабу, а он сам все потеряет, ничего не выигравши, даже не отомстивши.
Шумский поднялся, напился чаю и вышел прогуляться, чтобы чем-нибудь себя развлечь. Разумеется, он опросил тотчас трех попавшихся ему людей о здоровье графа. Они отвечали все то же слово, что и лакей, подававший чай.
– Слава Богу.
И всем трем Шумский ответил или сурово, или усмехаясь:
– Бог тут ни при чем!
Конечно, из опрошенных людей только один понял этот отзыв, смутился, замигал глазами, и почти отскочил в перепуге от молодого барина.
Едва только Шумский вышел и прошел вдоль двух флигелей, как услыхал впереди гулкий барабанный бой и вместе с ним сливающийся странный звук. Догадаться было бы нельзя, что все это значит, но Шумский, как прежний обитатель Гру?зина, знал в чем дело. На деловом дворе происходило наказание виновного. Барабанный бой изредка покрывался стоном. Не раз слыхал он это еще будучи юношей, но теперь сразу сильно смутился. Ему стало страшно, дрожь пробежала по спине! Возник вопрос.
– Кого?! Что, если наказывают…
Он не додумал, как бы испугавшись мысли, пришедшей в голову.
Кого мог наказывать Аракчеев через день после их объяснения? Или кого-нибудь за прежнюю вину, или же… И Шумский опять мысленно запнулся.
Двинувшись быстро на барабанный бой, Шумский почти побежал и произнес вслух несколько раз:
– Не может быть! Не может быть!..
В ту минуту, когда он уже собирался войти на крыльцо флигеля, именуемого «деловым двором», ему навстречу показался главный повар, по имени Афанасий.
– Что это? – воскликнул Шумский, тщетно стараясь быть спокойным.
Повар снял свой белый колпак, вытянулся в струнку и, разинув рот для ответа, не знал, что отвечать, ибо не понял вопроса.
– Что это? – крикнул Шумский, от смущенья снова задавая не тот вопрос, который хотел.
– Барабан-с. По болезни графа из библиотеки приказано перенести экзекуцию…
– Кого наказывают? – с легкой дрожью в голосе произнес Шумский.
Повар замедлил ответом, Шумский схватил его за плечи и крикнул со всей силы:
– Кого? Болван!..
– Крестьянина… Не могу знать-с… В беспорядке уличен… – поспешно заговорил Афанасий. – За ночь украли у него лопату с метелкой…
Шумский подавил вздох от спавшего с души гнета, отвернулся и тихо пошел по двору.
– И я тоже сумасшедший, – прошептал он. – Разве это возможно… Разве он посмел бы?.. Конечно, посмел бы! Но тогда что же бы с ним было. Что я с ним сделал бы? Да, тогда бы, пожалуй, прямо под суд и в Сибирь.
Между тем барабанный бой длился, крик все явственнее слышался. Шумский быстро пошел прочь.
Прежде случалось ему много раз быть почти свидетелем подобной расправы Аракчеева в его библиотеке, но это не производило на него никакого впечатления. Теперь внезапно ему стало и жаль наказываемого и казалась гадкой обстановка.
– И зачем этот барабан? – вымолвил он вслух. – Скрыть от всех или заглушить крики нельзя. Да ему и не нужно укрываться. Даже не желательно. Стало быть для комедии? Для чего-то иного?
Подумав, он согласился, что вопли, сливающиеся с барабанным боем, действительно производят даже на него какое-то сугубое впечатление казни: чудилось что-то омерзительно торжественное.
Удалясь от дома и дойдя до перевоза, Шумский остановился на берегу Волхова и долго глядел на реку.
При виде парома он вспомнил, что именно при переправе сюда, стоя на этом самом пароме, он окончательно решил мысленно не предавать Пашуту. Теперь же после вчерашнего разговора с девушкой, ему казалось даже диким, как мог он собираться предать «вот на этот барабанный бой» любимицу той, которую он сам боготворит.
Бог весть почему здесь, глядя на Волхов, Шумский вдруг перенесся мыслию в Петербург и вся история его любви ярко восстала в его памяти. Однако, ясно и ярко восставали лишь факты, но их внутренняя связь, их причина и смысл были покрыты каким-то туманом.
Шумский, глядя на себя в этом недалеком прошлом, будто не узнавал сам себя, не мог уразуметь, не только оправдать все, что творил этот Шумский.
«Другой, а не этот, который вот стоит тут на берегу».
Если он встретил девушку, которую внезапно полюбил с такой силой и впервые в жизни, то каким образом он с первого же дня не пошел простым и прямым путем? Каким образом могла явиться мысль действовать злодейски, позорно и жестоко? Как решился он войти злодеем в честную семью старика с дочерью, чтобы нравственно убить обоих? И кто же явился ангелом-хранителем любимого им существа? Дворовая девушка!.. Правда, очень умная и развитая по-своему, но все же таки простая горничная и крепостная холопка.
И вот, будто в наказание, когда он очнулся от своего полубреда, сознал свое бессмысленно преступное поведение и ясно увидел, что слишком искренно, глубоко любит Еву, чтобы решиться губить ее, в эти же почти мгновения все перевернулось, запуталось и все рухнуло… Пашута спасла баронессу, но запутала все и погубила всех.
Да, всех! Никому нет выгоды от того, что он, считавшись сыном Аракчеева, стал подкидышем, подброшенным или купленным – все равно.
Одному фон Энзе выгодно это. Но ни барону, ни Еве, если она любит его, ни Авдотье, ни Аракчееву с Настасьей, ни самой, наконец, Пашуте, никому открытие тайны не принесло и не принесет счастия.
– Но какая путаница? – прошептал Шумский, не спуская глаз с серой волны широкой реки. – Какая путаница! И почему все это так было. Почему я мог решиться так действовать? Ведь я не злой, не подлый, не скверный человек? Я это чувствую. Ведь я это не другому кому, а себе самому говорю! Сам себя я никогда не обманывал. Вот теперь я глубоко чувствую, что я не злой и не скверный, а между тем, тогда я действовал отвратительно жестоко и злобно. Я приводил в страх и ужас доброго Квашнина, привел в ужас ту же крепостную девку Пашуту. В ней оказалось больше чести, больше сердца и души, чем во мне…
И Шумский, стоя спиной к Гру?зину, к его каменным выровненным в ряд зданиям, к дому, и к собору, окинул взором пустое и голое пространство.
Безлюдные поля, кое-где покрыты тонким снегом, кое-где желтеющие померзлыми пажитями, темный лес на горизонте под свинцовой тучкой, широкая река, серая и пустая, вьющаяся змеей и уходящая вдаль – все миром повеяло на него.
Ширь и тишь окрестной жизни заглянули в душу петербургского блазня-гвардейца и будто шепнули ему что-то… про себя или про него?