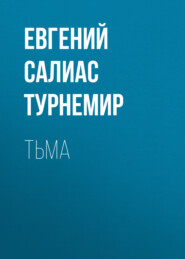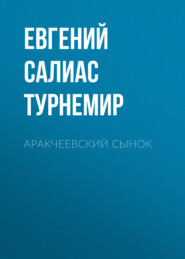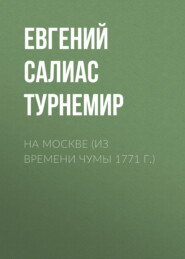По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фрейлина императрицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семьи эти появились в доме не сразу. Сначала тут поместили одну женщину, но вскоре же привезли мужчину с детьми, затем появилась еще одна женщина с взрослой красавицей дочерью и с тремя сыновьями и двумя маленькими девочками; за ними последовали, но не ближе как через месяц, две другие личности с двумя дочерьми, и, наконец, в исходе сентября месяца явилась еще целая семья. В доме, таким образом, набралось более двадцати человек мужчин, женщин и их детей, от шестнадцати до трех лет возрастом.
Эти незнакомцы и загадочные для рижан личности были, конечно, четыре семьи: Енриховы, Сковоротские, Дирих со своей латышкой Триной и ее дочерьми, наконец, Якимовичевы.
Каждая семья по приезде своем представлялась князю Репнину, и каждой объявлялся один и тот же приказ: сидеть смирно и тихо в доме и ожидать своей участи!
Разумеется, все обитатели дома вскоре сжились вместе, перестали радоваться тому, что у них не было никакой работы, никаких занятий, и вскоре же начали скучать и томиться. Пуще всего томила их неизвестность судьбы. Одна семья Сковоротских была еще сравнительно бодрее и веселее: Марья и дети надеялись, со слов князя Репнина, увидаться с Карлусом.
Отчасти была довольна и Анна с Михайлой, избавившись от злой панны старостихи. Что касается до Енриховых, то они тосковали более всех, оставив там у себя на родине хорошее хозяйство и достаток. Скучали и были недовольны Дирих и Трина, тем более, что однажды латышку с дочерьми хотели было, по приказанию князя Репнина, исключить из числа содержащихся и отпустить на волю.
Случилось это после того, как было дознано, что Трина не жена, а простая сожительница Дириха Сковоротского, что девушки эти – дочери не Дириха, а ее без вести пропавшего мужа. И только отчаяние и просьбы Дириха побудили начальство отсрочить изгнание.
Все заключенные знали хорошо, что их повезут в Петербург или Москву. Но зачем их повезут, что с ними будет, что намерена московская царица сделать с ними, было совершенно неизвестно. На этот счет князь Репнин не проронил ни слова.
Сотни раз приставали заключенные к суровому, но доброму Адаму Ивановичу сказать им хоть что-нибудь насчет их судьбы. Немец только успокаивал своих заключенных в минуты их отчаяния.
Он клялся, что ничего дурного им не предстоит, что положение их в России никак не может быть хуже того, в котором они были. Крон божился, что их не казнят, не накажут, не засадят в острог, но что, по всей вероятности, их отвезут очень далеко и поселят где-нибудь в маленьком русском городке, а может быть, где и в деревне. Зато избы, и скотину, и землю – все дадут. Только прикажут строжайше держать язык за зубами и ничего о себе непристойного не разглашать.
Таким образом изо дня в день из недели в неделю существовала огромная семья родственников несколько месяцев.
От праздности ли или действительно от неизвестности своей судьбы некоторые из заключенных иногда впадали в полное отчаяние и через своего главного смотрителя Адама Ивановича начинали просить начальство отпустить их домой. Но на эти просьбы, разумеется, не обращали никакого внимания.
И наконец узнали заключенные, что князь Репнин постоянно, почти каждую неделю ожидает вестей из столицы российской о том, чтобы снаряжать всех в дорогу.
В начале зимы им было объявлено, что они скоро поедут, но затем все снова пошло по-старому и никаких сборов и приготовлений не было.
В конце ноября месяца случилось наконец в доме, где содержалась «оная фамилия», некоторого рода событие, которое взволновало не только начальство, не только самих заключенных, но и почти половину всего города.
В числе содержавшихся таинственных для Риги незнакомцев было одно лицо, томившееся более других и не имевшее возможности примириться как с своим положением, так и с предстоящей судьбой, то есть путешествием в Россию. Это была юная и предприимчивая Софья.
Красавица девушка была как бы на особом положении благодаря своему горячему нраву, а отчасти своей привлекательности. Ее одну три раза вызывали к князю Репнину, и начальник края беседовал по-польски с красавицей, шутил, рассказывал ей про Россию, ласкал ее, успокаивал и говорил, что она в Москве, по всей вероятности, найдет себе хорошего жениха. При этом князь Репнин каждый раз говорил по-русски своему адъютанту одно и то же, что Софья могла понять, так как уже изрядно выучилась мороковать по-русски.
Репнин удивлялся: насколько Софья была похожа на государыню.
Вследствие этого внимания Репнина и сам надзиратель дома Адам Иванович обращался с Софьей ласковее. По крайней мере, раза четыре в неделю Софья бывала в гостях у него, просиживала до сумерек с его женой и с его дочерью, хотя сначала объясняться с ними ей было мудрено. Она не говорила ни слова по-немецки, а жена Крона лишь с усилием могла объясняться по-латышски. Оставался один польский язык, на котором они, хотя и с большим трудом, объяснялись. Но вскоре Софья поразила всех своими успехами в изучении новых для нее языков.
Проводя почти ежедневно по нескольку часов как в семье Крона, так и в беседах с другими немцами, Софья быстро освоилась с их языком и начала довольно изрядно объясняться. Русский язык давался ей почему-то с большим трудом, но и на нем могла она вскоре говорить. В девушке, очевидно, оказалась врожденная способность к учению и легкая переимчивость.
Вслед за Сковоротскими приехал в Ригу и молодой латыш. Пан Лауренцкий дал ганцу достаточно денег для того, чтобы он мог не только доехать до Риги, но и поселиться в ней.
Через несколько дней после помещения Марьи с семьей в доме, где были уже Енриховы, Цуберка сумел повидаться с своей возлюбленной, и затем они стали свободно видаться очень часто, но всегда вечером и ночью.
Заключенных не пускали на улицу, но внутри двора и в саду, где расчищались дорожки, они были совершенно свободны. Поэтому Софья могла всегда по вечерам долго гулять по саду, и осенью, и зимой, а Цуберка просто перелезал к ней через забор из переулка. Эти частые свиданья, конечно, облегчали горькую участь и заключение для Софьи.
Разумеется, влюбленные только и толковали о своей расстроившейся внезапно свадьбе и о том, как им быть и что предпринять…
И, конечно, они долго ничего придумать не могли и решили пока ждать, что будет. У пастуха было достаточно денег, чтобы предпринять путешествие даже в Москву, вслед за Софьей. Было решено, что Цуберка поедет за Сковоротскими хотя бы на край света, и там, где они поселятся, будет сыграна их свадьба.
Адам Иванович был слишком искусный и опытный тюремщик, чтобы не знать ничего о свиданьях Софьи с каким-то богатырем-латышом, но, не зная, что это бывший объявленный жених ее, смотрел на это добродушно. Крону и в ум не могло прийти, чтобы красавица девушка, похожая на барышню, а не на крестьянку, могла быть влюблена в нелепого косолапого парня, грязно одетого и крайне глупого на вид.
«Просто от тоски болтает она с мужиком в саду», – думал Крон.
Но тюремщик дал маху, и затем вскоре ему пришлось переменить свое мнение насчет невинной привязанности Софьи.
Побывав однажды, уже в ноябре месяце, с докладом у начальника, Адам Иванович в разговоре с Репниным коснулся чудной дружбы Софьи с молодым латышом. Осторожный Репнин взглянул на это иначе. Вернувшись домой и вызвав к себе девушку, Крон объяснил Софье, что она должна перестать видаться со своим приятелем, и что если его снова поймают как-нибудь в саду, то засадят в острог.
Это, конечно, страшно поразило Софью…
На ее заявление, что она со временем надеется выйти за него замуж, так как он поедет за ней вслед в Россию и куда бы то ни было, Крон изумился, испугался и заявил девушке, что она ошибается, что этого не позволят, что молодого малого не пустят ехать вслед за ними, а, в случае неповиновения, арестуют.
Немец объяснил Софье, что, какова будет ее судьба в России, никому не известно, что, может быть, ее выдадут замуж по распоряжению начальства и что во всяком случае вряд ли ей позволят выйти за простого латыша-пастуха.
Предполагая, что привязанность Софьи все-таки самая детская, немец не поцеремонился, и на другой же день, увидя возлюбленных снова в саду, он пригрозился немедленно арестовать Цуберку и засадить его в острог. Этого было, конечно, достаточно для предприимчивой и горячей нравом Софьи.
Через два дня она повидалась снова с возлюбленным, и так как он боялся перелезть через забор, то влюбленные беседовали через скважину в заборе. И здесь они решили, что на другой же день, в полночь, Цуберка подъедет с лошадьми, а Софья выйдет, и к утру они будут уже верст за пятьдесят от Риги.
XXV
Искреннее и серьезное чувство Софьи к дохабенскому богатырю, доброму, но глуповатому, можно было объяснить только постоянством характера. Еще там, прежде, в Дохабене и в Витках, мало ли кто ласково и предупредительно обращался с Яункундзе. Иные молодцы, сыновья богатых семей в Витках, красивые и ловкие, совсем панычи на вид, прямо ухаживали за ней. Помимо пана Лауренцкого, уже пожилого и некрасивого, одно время другой сосед пан, немолодой, но пригожий на вид, был тоже влюблен немного в Софью. Наконец, здесь в Риге один из офицеров, состоявших в страже «оной фамилии», молодой красивый малый, успел тоже серьезно влюбиться в красавицу.
Но Яункундзе только и отводила душу в беседах с другом детства.
В доме Адама Ивановича часто Софья встречала кое-кого из немцев-рижан. Один юный остзеец, сын богатого землевладельца, узнал тайно от Крона всю правду про «оную фамилию» и узнал, что их всех, вероятно, повезут в Петербург или в Москву к царице. Затем он узнал, что Софья, по сказанию всех и самого князя Репнина, удивительно похожа на императрицу. Юный немец и его отец сообразили и взвесили оба эти обстоятельства.
«Царица хочет всех приблизить к себе. Что из этого может произойти? Это дело не простое, и всякий умный человек должен в этом совпадении заранее увидеть серьезные последствия. Пожалуй, что эта ныне заключенная крестьянка может сделаться выгодной невестой».
Отец посоветовал сыну бывать чаще у Адама Ивановича и, встречаясь с Софьей, ухаживать за ней.
Но всех этих вздыхателей Софья как в Вишках и в Дохабене, так и теперь, в доме Адама Ивановича, всегда встречала одинаково хладнокровно и иногда даже презрительно.
Ей дорог был один богатырь-пастух, один глуповатый Цуберка; его она любила и предпочитала всем. В Дохабене, когда ей было всего только двенадцать лет, она часто целовала его, предварительно умывши, так как Цуберка был всегда чумазый. Теперь, в Риге, девушка-красавица, положение которой изменилось здесь и должно еще более измениться со временем, точно так же требовала, чтобы ганц умывался всякий день, и оставалась верна своему детскому чувству. Мысль о разлуке с Цуберкой камнем лежала у нее на сердце.
С первых дней прибытия в Ригу и заключения она смутно обдумала свой будущий побег… И теперь она решилась. Что ей московская столица!.. Что ей государыня и все, что сулят ей там! Все это не стоит ласки дохабенского пастуха.
В условленный час, конечно ночью, Софья, заранее расцеловав мать, братьев, маленькую сестренку, которую за последнее время привыкла нянчить, тихонько вышла в сад. Перелезть через забор, сесть в маленькие санки Цуберки было для Яункундзе, конечно, делом одной минуты.
Дорогие, сытые кони пана Лауренцкого, которых Цуберка в Риге берег и кормил вволю, так подхватили сани и так помчали по столбовой дороге влюбленных беглецов, что у обоих дух захватывало.
Дохабенский ганц любил кататься всегда и часто проезжал коней пана Лауренцкого, когда он ему это поручал. Поэтому Цуберка выучился лихо править и теперь он боялся только одного, как бы не разлетелись вдребезги его санки от лихой езды…
В семь часов утра Марья первая хватилась дочери и обратилась с вопросом ко всем остальным родственникам; все стали ее искать по горницам и в саду, спрашивать друг у друга: «Где Софья?» Весть о розысках дошла до команды, до самого Адама Ивановича, и в доме заключенных все поднялось на ноги с именем Софьи на устах. Но сама беглянка была уже теперь далеко от Риги.
К несчастью для влюбленных, Цуберка был глуп, а Софья была по юности своей недостаточно хитра и расчетлива.
Беглецам следовало бы, конечно, своротить куда-нибудь на проселок, завернуть в какую-нибудь деревушку и оставаться там до тех пор, пока тревога не уляжется вполне. Следовало бы, одним словом, поступить так, как когда-то поступили Якимовичевы. Вдобавок, на беду беглецов, рижское начальство обладало большими средствами, чем старостиха Ростовская.
Когда князь Репнин узнал, что единственная взрослая девушка всей фамилии бежала, вдобавок старшая дочь и любимица Карлуса Сковоротского, который был давно уже в России, начальник невольно смутился сам и разгневался на подчиненных.
Репнин имел свои собственные сведения о Карлусе, он знал, какая судьба постигла его в России, поэтому он мог предвидеть, как посмотрит императрица на исчезновение взрослой дочери Карлуса, которой, быть может, самодержица готовит особенную участь.