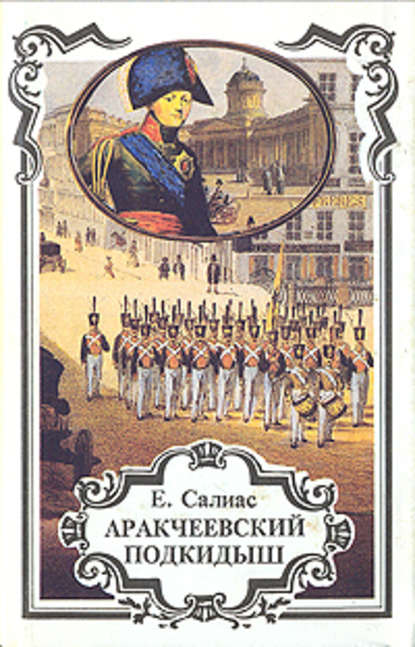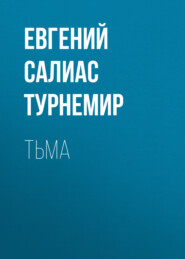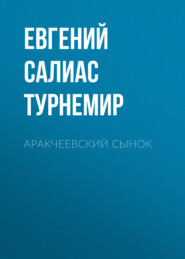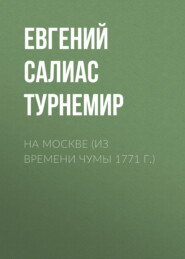По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский подкидыш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Меня в полицию требуют из-за кареты энтой. Сейчас сюда приходил квартальный…
– Ну, и ступай.
– Что ж мне сказывать прикажете?..
– Сказывай… что ты дурак.
– Помилуйте, Михаил Андреевич. Будьте милостивы, научите.
– Убирайся к черту! – вскрикнул Шумский. – Сказано тебе было сто раз, что меня убьют, а тебя простят. Дура!..
Через полчаса он, уже умывшись и одевшись, сидел за чайным столом, который накрыла Марфуша. Теперь, осмотрев все ли на месте, она стала поодаль от стола и впилась глазами в сидящего барина. По лицу девушки видно было, что она не спала ночь. Глаза ее опухли и покраснели от слез, а все лицо, обыкновенно красивое, теперь было бледное, искаженное, будто помертвелое…
Шумский не замечал ничего, пил чай, глубоко задумавшись и усиленно пуская клубы дыма из трубки. И вдруг он смутно расслышал над собой:
– Михаил Андреевич… Ради Создателя! Что вам стоит… Ну, хоть для меня…
– Что? Что такое? – удивленно выговорил он, поднимая глаза на девушку.
Марфуша стояла около него, держа в руке маленький образок с шнурком.
– Это что еще?..
– Михаил Андреевич… Ну, хоть для меня… Ради Господа… Ведь не трудное что прошу.
– Да чего тебе… Говори.
– Наденьте вот, говорю, образок. Я его из лавры нарочно для вас взяла… – со слезами промолвила Марфуша. – Угодник Божий спасет вас от всякой напасти…
– Здравствуйте… Э-эх, Марфуша!.. Кабы я в это верил, так я бы себе ожерелье целое из них нацепил… А так… это ни к чему… Ты его прибереги. Приволокут меня сюда мертвым часа через три, ну вот тогда и вздень его на меня… А теперь…
– Ну, ради Господа, прошу вас… – заплакала Марфуша. – Ведь не мудреное… И кого вы удивить хотите…
– Удивить?! – воскликнул Шумский и, подумав, он вдруг улыбнулся грустно и прибавил вполголоса: – И то правда… Никого не удивишь… Давай сюда… Будь по-твоему…
Он надел шнурок через голову и, просунув образок за ворот рубашки, улыбнулся снова.
– Поцелуй ты меня на счастье. Это вернее будет! – Марфуша, несмотря на слезы, слегка вспыхнула и опустила глаза.
– Ну что ж? Не хочешь. Я послушался, а ты вот упрямишься. Тоже не мудреное прошу.
– Извольте…
– Ну…
– Извольте, – повторила Марфуша и придвинулась к нему еще ближе.
– Чего «извольте?» Обойми, да и поцелуй. Сама. Я пальцем не двину…
Марфуша слегка взволновалась и не шевелилась. Новость останавливала ее. Она уже привыкла к тому, что Шумский изредка обнимал ее и целовал, но сделать то же самой, казалось ей чем-то гораздо большим.
– Ну, что ж… долго ждать буду?
Марфуша вдруг порывом опустилась перед ним на колени, почти упала, и схватив его руки, начала целовать их, обливая слезами. Шумский долго смотрел на ее опущенную над его коленами серебристую голову и вдруг выговорил:
– А ведь ты последняя… После тебя, ввечеру, все уж ко мне прикладываться будут без разбора пола и звания…
– Полно вам… Полно вам… – прошептала Марфуша. – Верю я, что все слава Богу будет.
– А я не верю… А при безверии да маловерии все к черту и пойдет.
Марфуша хотела что-то сказать, но в это мгновенье раздался звонок в передней. Девушка вскочила на ноги и быстро вышла вон.
Приехавший был Ханенко. Он поздоровался с хозяином, пытливо глянул ему в лицо и молча сел к столу.
– Когда ехать-то на балаганство? – спросил Шумский.
– К одиннадцати след бы ехать, – ответил капитан угрюмо. – Петр Сергеевич уже, поди, там распоряжается с Мартенсом.
– Ну, а похоронами моими кто распоряжаться будет? Вы или Квашнин?
Капитан сделал гримасу.
– Полно, Михаил Андреевич, – отозвался он сурово. – Ну, что тут хвастать да надуваться. Ни себя, ни другого кого не обманете…
– Как так… хвастать? Не пойму? – воскликнул Шумский, хотя в то же время отлично понял капитана.
– Умрите прежде… А хоронить найдется кому. Не ваше совсем то дело. Вовсе не любопытно мертвому, кто будет его хоронить… Так, хвастовство… фардыбаченье. Амбиция подпускная!..
И, помолчав мгновенье, Ханенко прибавил:
– Дразниться не след! Смириться надо перед Богом да молиться. Ну хоть без слов, умственно, сердечно помолиться. Не сердитесь, правду говорю ведь…
Шумский не ответил и задумался… «Образок нацепил, а сам ломаешься, – думалось ему. – И правда… Кого я обманываю». И он вздохнул.
Наступило молчание. Капитан, наливший себе чаю, медленно и сопя пил с блюдца вприкуску и, щелкая сахар, таращил глаза на самовар.
– Мерзость! Мерзость! – вдруг выговорил Шумский отчаянно, и стукнул кулаком по столу.
Капитан поднял глаза и угрюмо взглянул на него.
– Мерзость… Пакостная эта жизнь, а умирать… умирать не то, чтобы просто не хотелось, или боялся… а досадно как-то…
– Обидно… – выговорил Ханенко не то серьезно, не то подсмеиваясь.
– Да, обидно, именно обидно. Хоть бы сам что ли покончил с собой… а то другой…
– Вона… А надысь говорили, что это не по-российски самому себя ухлопывать. На вас не угодишь, Михаил Андреевич.