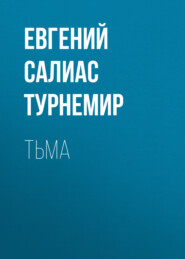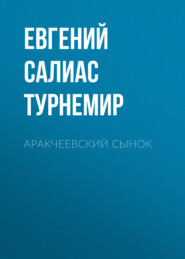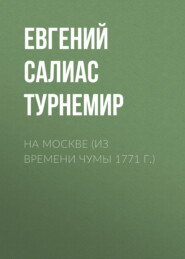По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фрейлина императрицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ксендз подтвердил первоначальную весть, полученную еще Меншиковым. К этому прибавил, быть может, по научению Сапеги, что дохабенский ганц не только считался утопившимся, но что некоторые из дохабенских крестьян видели труп утопленника.
И Софья под этим ударом еще раз и еще горячее поплакала о судьбе своего бывшего жениха.
Между тем старый магнат объяснил Карлу Самойловичу, что если его дочь согласится выйти за его сына, то завещание покойной императрицы насчет приданого ее любимицы будет исполнено в точности. Если же она выйдет за другого кого, то цесаревна, недовольная упрямством девушки, отступится от Скавронских. Действительно, цесаревна заявила, что если Софья пожелает выйти за иного русского дворянина, то она предоставляет самим Скавронским хлопотать у государя Петра Алексеевича об исполнении воли покойной царицы. Разумеется, отец и мать Скавронские принялись приставать ежедневно к дочери, уговаривать и упрашивать ее, чтобы она дала свое согласие.
Софья Карловна, похоронив в сердце Цуберку, стала приглядываться иными глазами к молодому поляку и скоро поневоле должна была сознаться, что он был жених самый завидный во всем Петербурге. Он был молод, красив, умен и теперь стал вдруг чрезвычайно нежен и добр к ней. Вдобавок он был одной с нею религии, и родной язык его был ее родным языком, ее даже прозвали при появлении в Петербурге «польской фрейлиной».
«Если уж не за Цуберку, – решила, наконец, Софья, – то все равно за кого. Видно, он мой суженый! Уж лучше за поляка выйти, чтобы жить не здесь, а на родимой стороне».
И вскоре, к радости всей родни, была отпразднована пышная свадьба. Яункундзе у себя на родине, «первая» фрейлина в России – стала польскою графиней Сапегой.
Все придворные, вся знать и, разумеется, вся родня невесты были на свадьбе. После венчания в католической церкви, любопытного для многих дворян-гостей, был парадный обед во дворце. Несмотря, однако, на все старания посаженой матери, цесаревны, торжественности за свадебным столом не было никакой.
Юный государь настолько в этот день расшалился, что его не могли даже заставить сесть за общий стол. Он объявил, что будет обедать в соседней горнице с четырьмя фрейлинами, к которым относился особенно благосклонно. Многие опасались, что за обедом будет себя держать невоздержно дядя невесты, граф Федор Самойлович. К нему приставили и около него даже посадили доверенного человека, чтобы кормить его, но пить не давать. Вышло, однако же, совершенно иное: прежний Дирих, никогда не бывший в придворном обществе и очутившийся теперь почти впервые на торжественном обеде среди блестящих сановников, настолько был смущен, что не только пить, но и есть не мог.
После венца молодые супруги поселились временно в одном из лучших домов Петербурга, но отъезд их в Литву и Польшу был решен еще до свадьбы.
Вскоре после этого, «вследствие соблазнительного поведения некоторых членов Скавронской фамилии», то есть шалостей в городе юного Антона Карловича, и «вследствие беспокойства и возбуждения толков и пересудов в столице» – все обыватели Крюйсова дома были, по приказанию государя, препровождены на жительство в Москву.
Шалость Антона была лишь пустым предлогом удалить Скавронских, Генриховых и Ефимовских от двора.
Московское дворянство встретило новых гостей холодно. В Петербурге многие по собственной воле являлись на поклон в Крюйсов дом и искали их знакомства. Здесь же, в Первопрестольной, несмотря на приказание из Петербурга войти в сношения и обращаться благосклонно и дружелюбно с «оной фамилией», москвичи не поддались. Немногие лишь баре сделали графам Скавронским по одному визиту, по одному разу позвали их к себе и затем перестали с ними знаться, объясняясь просто:
– Не повадливо! Совсем мужики! Наши собственные холопы над нами смеяться станут.
Здесь, в Москве, все три семейства были введены во владение своими многочисленными вотчинами, пожалованными им по завещанию Екатерины Алексеевны.
Среди первой же зимы все три семьи настолько переругались между собою, что даже разъехались и поселились в разных домах. С весною все они переехали в лучшие вотчины, каждый в свою. Но так как все три семейства не были правильно разделены, некоторые вотчины, а в особенности большие, были пожалованы им в общее владение, то, разумеется, начались дрязги, ссоры, препирательства, и кончилось тем, что на глазах московских дворян началась целая война.
Советники молодого государя, до которых доходили вести о соблазнительном поведении «оной фамилии», собирались именем государя принять строгие меры, но каждый раз цесаревна являлась их защитницей. Вскоре сама судьба явилась их карателем.
XXI
Мгновенный, сказочный переход из крестьян в дворяне, из простых холопов и рабочих в сановники не мог обойтись даром. Эта метаморфоза принесла свои плоды. Праздная жизнь, тоска за неимением какого-либо занятия, невоздержность во всем том, что было всю жизнь запретным плодом, – сделали свое дело.
Жизнь в Москве и подмосковных вотчинах для старших членов бывшей «оной фамилии» продолжалась не долго.
Живя в Петербурге, в Крюйсовом доме почти безвыходно, почти никого не принимая, все проводили жизнь сравнительно хорошо. Изредка лишь бывали ссоры между Ефимовскою и остальными членами семьи из-за порядков в доме и из-за хозяйства.
Теперь, в Москве, жизнь пошла шире: Крюйсов дом был нечто вроде тюрьмы, а здесь они все очутились на свободе. Главною причиною перемены их положения было то простое обстоятельство, что в Крюйсовом доме у них было только дюжины три прислуги – теперь же все они стали помещиками, властителями над сотнями крепостных душ. Они стали воистину господами, у них явились свои рабы.
В качестве московских обывателей, дворян и помещиков они входили теперь в соприкосновение с людьми различных сословий. Следовательно, у них заводилось и наконец завелось большое знакомство.
Старинное дворянство московское сторонилось от них, или, как говорили, «чуралось», новоиспеченных иноземных дворян, чти вдруг попали, по манию царицы, «из грязи дав князи». Зато другие сословия, ниже их стоящие по общественной иерархии, но выше их по относительному образованию, в том числе многие купцы, духовные лица, московские богатые мещане – преимущественно знакомились и водились теперь с новыми дворянами. Выскочкам в люди было менее стеснительно с ними, чем с гордыми дворянами.
Здесь, в Москве, на этой свободе и уже в роли помещиков-рабовладельцев личные качества и недостатки, вообще характеры членов трех семей сказались ярче.
Прожив зиму в Москве, ранней весною все они разъехались по разным вотчинам. Один граф Карл Самойлович оставался в Москве и хлопотал через цесаревну Елизавету Петровну о том, чтобы получить в подарок дом в Москве, так как ему было обидно и зазорно жить в «наемной фатере», а не в своем собственном доме в виде боярских палат.
Генриховы уехали в большую вотчину, полученную ими в Рязанской провинции. Христина здесь перестала звать мужа ласкательным прозвищем Янко. Так как настоящее двойное имя его, данное при крещении, было Симон-Иоанн, то Генрихов стал для жены и для всех: Семен Иванович, И здесь вскоре Христина и Семен Генриховы, дельные люди и деятельные хозяева, стали служить примером всем соседним землевладельцам.
Все, что попадало к. ним в руки – и семьи крестьян, и деревушки, и всякие угодья, – все тотчас же принимало другой вид и приходило в цветущее состояние. Нечего и говорить о том, что рабы Генриховых, при ласковом обращении, стали обожать своих господ.
Христина Самойловна и Семен Иванович хорошо помнили, как незлой, но скупой и требовательный пан Вульфенщильд морил их непосильною работой, требуя больше того, что самая усердная семья работников могла сделать. Теперь новые помещики и господа Генриховы не отягощали своих рабов ни барщиной, ни оброком.
Старшие сыновья Карла Самойловича, граф Антон Карлусович и Мартын Карлусович, отправленные отцом для занятия хозяйством, конечно, ничего не делали, проводили время во всяких забавах и удовольствиях, дружились со своими сверстниками, сыновьями помещиков, кутили и буянили.
Скоро, благодаря обоим графчикам, имя графов Скавронских стало синонимом добрых, но буйных молодцов. Во всей их округе, где они жили, около Коломны, в большом, богатом селе Горы, часто говорилось про кого-нибудь:
– Экой сорвиголова! Не хуже Скавронского графчика.
Молодые люди могли бы кончить очень дурно, так как были безо всякого призора. Мать была слишком добрая, слабовольная женщина, отец совершенно обленился еще в Крюйсовом доме, теперь же, казалось, сделался еще тяжелее на подъем. Занимало его лишь одно поваренное искусство, стряпня всяких кушаний и всяких сластей. Он ухитрялся покушать до шести раз в сутки.
Граф Федор Самойлович с женою своей Екатериной Родионовной и с многочисленной толпою бедных родственников Сабуровых жил в большом селе под самой Москвой. Детей у него не было, да и ожидать их было нельзя.
Все управление своими рабами он передал в руки двух братьев жены, двух лихих молодцов, которые распоряжались всем как хотели.
Единственно, чего не допускал прежний Дирих, добрый и сердечный человек, было жестокое обращение с рабами. Всегда тихий, и даже печально-тихий, граф Федор Самойлович оживлялся, пылил и возвышал голос, когда дело касалось обиды или притеснения кого-либо из его новых крепостных.
Скоро Сабуровы подчинились этому. Они не обижали никого из крепостных графа словом или делом, но зато изводили их поборами, отнимая все, что было можно отнять, даже у беднейшего из крестьян. На это холопы жаловаться барину-графу не ходили. Поэтому Сабуровский способ управления вотчинами не мог дойти до сведения Федора Самойловича.
Семья Ефимовских точно так же стала барствовать и управляться с рабами, но эти новые, господа были уже совершенно иными, чем Генриховы и Скавронские.
Крутая нравом и даже отчасти злая, Анна еще недавно была одно время любимицей старостихи Ростовской именно потому, что помещица увидела в ней достойную себе наперсницу, женщину крутую и любящую повелевать. И если эта Анна тогда жестоко обращалась с холопами старостихи, то теперь, конечно, ее властолюбию и всякому самодурству было широкое поле.
Барыня Ефимовская вскоре стала тоже служить примером для соседей, как и барыня Генрихова; но разница была огромная. Барыню Ефимовскую часто обзывали свои и чужие «бабой-людоедом». Казалось, что она на своих новых подданных вымещает свои прежние кровные обиды, нанесенные ей помещицей-старостихой. Разные дикие поступки Анны Самойловны были настолько громки, настолько нашумели, что дело дошло до слуха Елизаветы Петровны.
К Ефимовским было прислано доверенное лицо из Петербурга с приказанием цесаревны вести себя кротче и тише, иначе Анне грозили, что она будет подлежать гневу самого государя и строгому ответу. Но Анна не унялась, и случай подлежать ответу представился в то же лето.
Все имения и вотчины со всеми угодьями, которые были закреплены за Скавронскими, были даны им в общее владение. Скавронские, оба брата, не были правильно и законно разделены с сестрами Генриховой и Ефимовской.
Случилось так, что две вотчины, доставшиеся Ефимовским и графу Федору Самойловичу, были смежны в одной Можайской провинции.
Отсюда с первых же дней весны начались пререкания, недоразумения и ссоры между сыновьями Анны и зятьями Скавронского. Понемногу началась настоящая усобица; страсти с обеих сторон разгорались все более. Сначала все ограничивалось личными спорами и бранью, потом обе стороны перенесли препирательства на бумагу, стали подавать прошения в нижний и в верхний земские суды, нанимали подьячих и ходатаев. Вместе с тем они начали писать жалобные послания, жалуясь друг на друга некоторым вельможам петербургским, прося ходатайствовать у покровительницы, цесаревны Елизаветы.
Наконец, среди лета усобица и мелкие стычки перешли уже в побоища…
Крестьяне деревень и сел этих вотчин, сбитые с толку, уже не знали, кому повиноваться. Сабуровы требовали с них последние гроши, говоря, что они законные рабы господина графа Скавронского; Ефимовские являлись и требовали повиновения, налагали наказание, говоря, что они настоящие господа.
Несколько раз случалось, что и те и другие, собрав крестьян числом до сотни и более, шли друг на друга. Происходила стычка жестокая и кровопролитная, где-нибудь в лесу, на лугах, чаще всего на сельских работах, на сенокосе.
Вся эта война завершилась наконец маленьким событием, слух о котором дошел до Петербурга, и на происшествие обратила особенное внимание цесаревна.
XXII
Дело случилось просто… Федор Самойлович, прожив довольно неудобно зиму в Москве, решил на собственной своей земле, большом пустыре около Никитских ворот, выстроить себе хорошие барские палаты. Так как в Можайской вотчине был у него строевой лес, то управители-зятья взялись ретиво за дело, обещая добродушному, всегда на все согласному шурину, что к зиме будет у него в Москве чуть не дворец из собственного леса.
Вскоре в Можайской округе застучали сотни топоров, лег на землю великолепный заповедный бор и как бы сполз затем в соседнюю речку. Большие, многочисленные плоты, на которые с завистью глядели соседи, направились караваном по реке, чтобы, перейдя в Москву-реку, прибыть в Первопрестольную столицу.