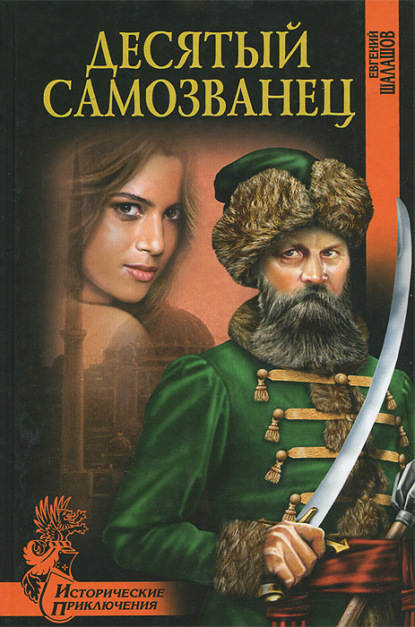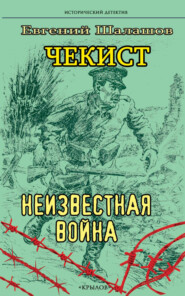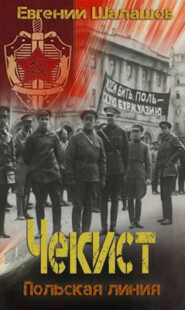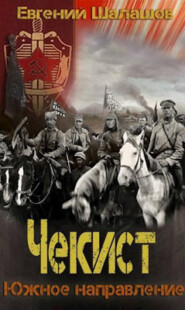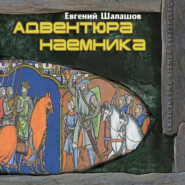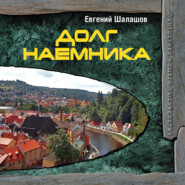По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Десятый самозванец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тяжко? – с состраданием посмотрела Маланья ему в глаза.
– Угу…
– Я, щас, – соскочила баба с постели и метнулась куда-то в угол. Вернувшись, поднесла к губам парня кринку. – Ну-ко, испей.
Акундинов жадно приник к кринке, где оказалась слабенькая бражка. Самое то, что бы «поправить» голову! С помощью Маланьи, придерживающей емкость за донышко, а самого его за голову, выпил «лекарство» и облегченно отвалился на постель. Вроде бы, все осколки, на которые развалилась голова, сошлись воедино…
– Ты, поспи пока, – посоветовала сердобольная баба. – А я – стряпать пойду, да корову доить. Потом приду.
Акундинов провалился в сон, а когда проснулся, то снова узрел перед собой Маланью.
– Ух, здоров же ты, спать, – засмеялась женщина, – Мой-то, с самого с ранья проснулся, коней напоил. Ему-то, хошь чарку выпить, хошь – ведро, все едино. Ты же вчера два ведра купил.
– И, что? – с испугом пробормотал Тимоха. – Неужели, оба ведра?
– Ну, одно-то, почти все вылакали. Куда и влезло-то столько? Прокоп-то, он, хоть сам зелено вино выкуривает, но пить не пьет. Это, грит, денежки стоит. Вот, ежели кто, угостит…
– А, где… – начал, было, Тимофей, вспоминая, как зовут напарника.
– Да все там же, – успокоила женщина. – Он как проснулся, то вместе с мужиком моим опять пить засел. А за меня ты вчера целых два алтына дал. Сказал – мне, мол, на три дня подруга нужна. И за постой на три дня вперед заплатил, да светелку у Прокопа вытребовал. Вот еще, кисет с деньгами обронил, возьми. А сумка твоя, да сабля – все тут лежит. Шуба, правда, в избе осталась.
Акундинов с тоской потрогал изрядно «похудевший» кошель. «Если так пойдет, то скоро коней продавать придется» – грустно подумал он. Конечно, была у него еще в седле «схоронка» с ефимками, но все-таки, жалко… Потом, твердо решив, что будет теперь, до самой границы перебиваться с хлеба на квас, а Коску – пьяницу, ради сбережения копеечек, оставит где-нибудь на постоялом дворе, повеселел.
– Ты, есть-то, будешь, али нет? – поинтересовалась баба. – Я тут тебе щечек принесла свежих, да винца штоф, да кваску.
Подставив к изголовью табурет, хозяйка ловко выставила на него горшочек, ломоть хлеба и поставила глиняный штоф и чарку. Ложку же протянула его собственную, не забыв обтереть передником.
Тимофей с трудом проглотил первую ложку, потом – вторую. А когда Маланья поднесла ему чарочку, то выпив, он уже ел и ел без остановки, пока не выхлебал весь горшочек.
– Ух, хорошо-то как! – искренне сказал Тимофей, почувствовав себя родившимся вновь. – А щи у тебя такие, что язык проглотишь! Умелица ты…
Зардевшаяся хозяйка стушевалась и торопливо налила ему новую чарочку.
– А сама-то? – спросил Акундинов. Когда же хозяйка испуганно замотала головой, почти насильно вложил ей в руку чарку и скомандовал: – А ну-ко, залпом!
– Не-не, что ты, – отпихивала хозяйка чарку. – Я же, как выпью, то совсем дурной становлюсь.
– Давай, давай, – настаивал Тимоха, поднося чарку к самым губам.
Не устояв перед натиском, Маланья попыталась выпить. Выпила, но поперхнулась и закашлялась. Торопливо схватив корчажку с квасом, отхлебнула глоток.
– Редко, пить-то приходится, – будто оправдываясь, сказала баба, утирая проступившие слезы.
– Это правильно, – похвалил Тимофей женщину, допивая из чарки остатки. Переведя дух, мудро изрек. – От водки-то этой, одна неприятность.
По всем его жилочкам растеклось приятное тепло. Захотелось чего-то еще… Он искоса поглядел на бабу, привстал на постели и потянул ее к себе. Осторожно и, даже нежно, помог ей скинуть тулупчик. Потом, взяв ее руки в свои, крепко поцеловал в губы. Почувствовав, как баба глубоко и часто задышала, усадил ее на постель, покрывая все лицо поцелуями. Потом, не выдержав больше, повалил Маланью на спину и стал судорожно задирать ей подол. Она не противилась, а напротив, помогала избавляться от лишней одежды. Все-таки, чуть-чуть терпения у Тимофея оставалось, поэтому, он успел еще погладить руками то, что до сей поры, укрывали юбка и подол тяжелой зимней рубахи…
– Ой, Тимошенька, – стонала баба, – Хорошо-то как!
Когда удоволенный и счастливый Тимофей отвалился от Маланьи, та еще находилась в сладостном оцепенении…
Акундинов, которому вдруг понадобилось отлучиться, выбежал из светелки и, через сени выскочил во двор. Поискав нужник, плюнул, и побрызгал прямо на угол. Потом, немного постояв во дворе, сообразил, что впопыхах забыл не то, что одеться, но и обуться. И, хотя еще не было настоящей зимы, но снег в ноябре уже выпал, поэтому мужик замерз и пошел отогреваться в избу.
Тимофей, заглянул в «зимник», посмотреть – как там, Конюхов-то? Войдя внутрь, невольно затаил дыхание, а потом, стоял какое-то время, дыша ртом и, привыкая к тяжелому запаху….
Под столом, на куче соломы тяжелым пьяным сном спал Конюхов. Хозяин возлежал на лавке мордой вверх, скрестив руки на груди, словно покойник. Однако, заслышав шум, Прокоп тотчас же открыл глаза и глянул на вошедшего. Увидев, что перед ним знакомец, закрыл один глаз, внимательно посматривая вторым на Тимофея.
– Как вы тут? – спросил Акундинов, хотя и так было все ясно…
– Пьем, – просипел хозяин. – Кинстантина твого, я на пол положил. Ежели на печку, али на лавку, то упасть может. Шею свернет, так с кем же я пить-то буду? Пусть на соломе дрыхнет. Не боись, я его харей вниз повернул. А то был тут у нас один хмырь, сблевнул во сне, да захлебнулся и помер…
Тимоха, хмуро посмотрел на пьяного в «зюзю» друга, прикидывая, что ежели бы тот бы, да помер бы от вина, так и мороки-то меньше. Вот только, хоронить придется…
– Ладно, – повернулся хозяин на бок, отворачиваясь к стене. – Скажи там, бабе, чтобы скотину не забыла накормить, да корову подоить…
Тимофей, только головой покачал и пошел обратно в светелку, прихватив свою шубу. Все теплее, чем под одним одеялом.
– Замерз? – спросила Маланья, высовываясь из-под одеяла и протягивая к нему руки. – Иди ко мне…
Тимофей, выпив для сугрева еще чарку, забрался под теплый женский бок.
– У, холодный-то весь, – шептала баба, оглаживая его спину и грудь, спускаясь все ниже и ниже… – Ой, да, какой маленький да замерзший, – зашептала она еще жарче, запуская руку в прореху подштанников. – Ничо, щас согрею!
Почувствовав новый прилив сил и бодрости в чреслах, Тимофей принялся ласкать женщину, доводя ее и себя до новой волны жаркого безумия…
После того, как приступ взаимной страсти иссяк, а Маланья, закрыв глаза, отдыхала, опять пришли вирши:
Я бы звездочку отнял у неба, что б тебе ее подарить,
Я не стану есть, даже хлеба, коль меня ты не будешь любить.
Я, как нищий странник, скитался, по лесам и между дорог,
Или – в скит бы, какой, подался, что б не чуять сердцем тревог!
Я бы отдал все деньги мира, что б тебя своею назвать!
И, на сердце, сыграл, как на лире, что бы только любимым стать!
– Тимошенька, солнышко мое, – заплакала женщина, прижавшись к нему. – Как же ты говоришь-то красиво! Ровно, как ангел божий…
Наплакавшись, Маланья притихла, вспоминая чего-то свое. Потом, с усилием оторвавшись от мужика, вздохнула:
– Надо ужин готовить. А потом – скотину обряжать. Тимоша, тебе чего приготовить-то?
– Пирогов охота, горяченьких. Или – блинов. Очень уж я блины люблю! Особенно – с пылу с жару.
– Будут блины, будут! – радостно закивала баба. – А пирогов я завтра, с утра напеку. Тебе к блинам-то что подать – сметану или мед?
– А можно – и меда и сметаны? – попросил Тимоха, решив, что можно и покапризничать.
– Можно! – кивнула Маланья. – А к водочке что принести? Огурчиков, капустки? Есть рыбка соленая. Осталась, водочка-то?
Проверив, сколько «зелена» вина осталось в штофе и, вылив остатки в чарку, Маланья захватила грязную посуду и ушла. Но уже скоро вернулась, неся с собой полный штоф и миску с огурцами и куском вареной говядины.
– Угу…
– Я, щас, – соскочила баба с постели и метнулась куда-то в угол. Вернувшись, поднесла к губам парня кринку. – Ну-ко, испей.
Акундинов жадно приник к кринке, где оказалась слабенькая бражка. Самое то, что бы «поправить» голову! С помощью Маланьи, придерживающей емкость за донышко, а самого его за голову, выпил «лекарство» и облегченно отвалился на постель. Вроде бы, все осколки, на которые развалилась голова, сошлись воедино…
– Ты, поспи пока, – посоветовала сердобольная баба. – А я – стряпать пойду, да корову доить. Потом приду.
Акундинов провалился в сон, а когда проснулся, то снова узрел перед собой Маланью.
– Ух, здоров же ты, спать, – засмеялась женщина, – Мой-то, с самого с ранья проснулся, коней напоил. Ему-то, хошь чарку выпить, хошь – ведро, все едино. Ты же вчера два ведра купил.
– И, что? – с испугом пробормотал Тимоха. – Неужели, оба ведра?
– Ну, одно-то, почти все вылакали. Куда и влезло-то столько? Прокоп-то, он, хоть сам зелено вино выкуривает, но пить не пьет. Это, грит, денежки стоит. Вот, ежели кто, угостит…
– А, где… – начал, было, Тимофей, вспоминая, как зовут напарника.
– Да все там же, – успокоила женщина. – Он как проснулся, то вместе с мужиком моим опять пить засел. А за меня ты вчера целых два алтына дал. Сказал – мне, мол, на три дня подруга нужна. И за постой на три дня вперед заплатил, да светелку у Прокопа вытребовал. Вот еще, кисет с деньгами обронил, возьми. А сумка твоя, да сабля – все тут лежит. Шуба, правда, в избе осталась.
Акундинов с тоской потрогал изрядно «похудевший» кошель. «Если так пойдет, то скоро коней продавать придется» – грустно подумал он. Конечно, была у него еще в седле «схоронка» с ефимками, но все-таки, жалко… Потом, твердо решив, что будет теперь, до самой границы перебиваться с хлеба на квас, а Коску – пьяницу, ради сбережения копеечек, оставит где-нибудь на постоялом дворе, повеселел.
– Ты, есть-то, будешь, али нет? – поинтересовалась баба. – Я тут тебе щечек принесла свежих, да винца штоф, да кваску.
Подставив к изголовью табурет, хозяйка ловко выставила на него горшочек, ломоть хлеба и поставила глиняный штоф и чарку. Ложку же протянула его собственную, не забыв обтереть передником.
Тимофей с трудом проглотил первую ложку, потом – вторую. А когда Маланья поднесла ему чарочку, то выпив, он уже ел и ел без остановки, пока не выхлебал весь горшочек.
– Ух, хорошо-то как! – искренне сказал Тимофей, почувствовав себя родившимся вновь. – А щи у тебя такие, что язык проглотишь! Умелица ты…
Зардевшаяся хозяйка стушевалась и торопливо налила ему новую чарочку.
– А сама-то? – спросил Акундинов. Когда же хозяйка испуганно замотала головой, почти насильно вложил ей в руку чарку и скомандовал: – А ну-ко, залпом!
– Не-не, что ты, – отпихивала хозяйка чарку. – Я же, как выпью, то совсем дурной становлюсь.
– Давай, давай, – настаивал Тимоха, поднося чарку к самым губам.
Не устояв перед натиском, Маланья попыталась выпить. Выпила, но поперхнулась и закашлялась. Торопливо схватив корчажку с квасом, отхлебнула глоток.
– Редко, пить-то приходится, – будто оправдываясь, сказала баба, утирая проступившие слезы.
– Это правильно, – похвалил Тимофей женщину, допивая из чарки остатки. Переведя дух, мудро изрек. – От водки-то этой, одна неприятность.
По всем его жилочкам растеклось приятное тепло. Захотелось чего-то еще… Он искоса поглядел на бабу, привстал на постели и потянул ее к себе. Осторожно и, даже нежно, помог ей скинуть тулупчик. Потом, взяв ее руки в свои, крепко поцеловал в губы. Почувствовав, как баба глубоко и часто задышала, усадил ее на постель, покрывая все лицо поцелуями. Потом, не выдержав больше, повалил Маланью на спину и стал судорожно задирать ей подол. Она не противилась, а напротив, помогала избавляться от лишней одежды. Все-таки, чуть-чуть терпения у Тимофея оставалось, поэтому, он успел еще погладить руками то, что до сей поры, укрывали юбка и подол тяжелой зимней рубахи…
– Ой, Тимошенька, – стонала баба, – Хорошо-то как!
Когда удоволенный и счастливый Тимофей отвалился от Маланьи, та еще находилась в сладостном оцепенении…
Акундинов, которому вдруг понадобилось отлучиться, выбежал из светелки и, через сени выскочил во двор. Поискав нужник, плюнул, и побрызгал прямо на угол. Потом, немного постояв во дворе, сообразил, что впопыхах забыл не то, что одеться, но и обуться. И, хотя еще не было настоящей зимы, но снег в ноябре уже выпал, поэтому мужик замерз и пошел отогреваться в избу.
Тимофей, заглянул в «зимник», посмотреть – как там, Конюхов-то? Войдя внутрь, невольно затаил дыхание, а потом, стоял какое-то время, дыша ртом и, привыкая к тяжелому запаху….
Под столом, на куче соломы тяжелым пьяным сном спал Конюхов. Хозяин возлежал на лавке мордой вверх, скрестив руки на груди, словно покойник. Однако, заслышав шум, Прокоп тотчас же открыл глаза и глянул на вошедшего. Увидев, что перед ним знакомец, закрыл один глаз, внимательно посматривая вторым на Тимофея.
– Как вы тут? – спросил Акундинов, хотя и так было все ясно…
– Пьем, – просипел хозяин. – Кинстантина твого, я на пол положил. Ежели на печку, али на лавку, то упасть может. Шею свернет, так с кем же я пить-то буду? Пусть на соломе дрыхнет. Не боись, я его харей вниз повернул. А то был тут у нас один хмырь, сблевнул во сне, да захлебнулся и помер…
Тимоха, хмуро посмотрел на пьяного в «зюзю» друга, прикидывая, что ежели бы тот бы, да помер бы от вина, так и мороки-то меньше. Вот только, хоронить придется…
– Ладно, – повернулся хозяин на бок, отворачиваясь к стене. – Скажи там, бабе, чтобы скотину не забыла накормить, да корову подоить…
Тимофей, только головой покачал и пошел обратно в светелку, прихватив свою шубу. Все теплее, чем под одним одеялом.
– Замерз? – спросила Маланья, высовываясь из-под одеяла и протягивая к нему руки. – Иди ко мне…
Тимофей, выпив для сугрева еще чарку, забрался под теплый женский бок.
– У, холодный-то весь, – шептала баба, оглаживая его спину и грудь, спускаясь все ниже и ниже… – Ой, да, какой маленький да замерзший, – зашептала она еще жарче, запуская руку в прореху подштанников. – Ничо, щас согрею!
Почувствовав новый прилив сил и бодрости в чреслах, Тимофей принялся ласкать женщину, доводя ее и себя до новой волны жаркого безумия…
После того, как приступ взаимной страсти иссяк, а Маланья, закрыв глаза, отдыхала, опять пришли вирши:
Я бы звездочку отнял у неба, что б тебе ее подарить,
Я не стану есть, даже хлеба, коль меня ты не будешь любить.
Я, как нищий странник, скитался, по лесам и между дорог,
Или – в скит бы, какой, подался, что б не чуять сердцем тревог!
Я бы отдал все деньги мира, что б тебя своею назвать!
И, на сердце, сыграл, как на лире, что бы только любимым стать!
– Тимошенька, солнышко мое, – заплакала женщина, прижавшись к нему. – Как же ты говоришь-то красиво! Ровно, как ангел божий…
Наплакавшись, Маланья притихла, вспоминая чего-то свое. Потом, с усилием оторвавшись от мужика, вздохнула:
– Надо ужин готовить. А потом – скотину обряжать. Тимоша, тебе чего приготовить-то?
– Пирогов охота, горяченьких. Или – блинов. Очень уж я блины люблю! Особенно – с пылу с жару.
– Будут блины, будут! – радостно закивала баба. – А пирогов я завтра, с утра напеку. Тебе к блинам-то что подать – сметану или мед?
– А можно – и меда и сметаны? – попросил Тимоха, решив, что можно и покапризничать.
– Можно! – кивнула Маланья. – А к водочке что принести? Огурчиков, капустки? Есть рыбка соленая. Осталась, водочка-то?
Проверив, сколько «зелена» вина осталось в штофе и, вылив остатки в чарку, Маланья захватила грязную посуду и ушла. Но уже скоро вернулась, неся с собой полный штоф и миску с огурцами и куском вареной говядины.