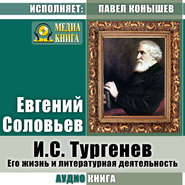По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иоанн Грозный. Его жизнь и государственная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первой “крупной” жертвой его на этот раз был князь Владимир Андреевич. Шестнадцать лет уже таил на него Иоанн злобу свою, и наконец она разразилась. Случилось это при следующих обстоятельствах. Князь Владимир ехал в Нижний через Кострому, где граждане и духовенство встретили его с крестами и хлебом-солью, изъявляя любовь свою. Узнав об этом, царь велел привести костромских начальников в Москву и казнить их. Брата он ласково пригласил к себе. Владимир направился к нему с женою и детьми и, остановившись в трех верстах от слободы, в деревне Слотич, дал знать о своем приезде Иоанну. Вдруг видит он полки всадников, скачущих во весь опор с обнаженными мечами. Всадники окружили деревню, схватили князя и повели его вместе с семейством к Иоанну, сидевшему в избе. “Вы хотели умертвить меня ядом, – сказал Иоанн, – пейте его сами!” Подали отраву. Владимир простился с супругой, благословил детей и выпил яд, то же сделала жена его и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать. Иоанн все время смотрел на их агонию. И здесь уже не жестокость просто, здесь мучительство и наслаждение им. Но особенно любопытно, что Иоанн ждал мести своей целых шестнадцать лет. Это может сбить с толку всякого, кто склонен видеть в грозном царе болезненное расстройство. Такое долготерпение как-то не вяжется с обычным представлением об Иоанне, любившем немедленно же удовлетворять каждую прихоть свою, каждое волнение похоти. А тут целых шестнадцать лет, и каких еще лет! Все это время царь ласкал брата, ухаживал за ним, честил[4 - Чтил, почитал (уст.)] всякими способами и почти накануне казни вверил ему войско для защиты Астрахани. Такая выдержанность, повторяю, свидетельствует, по-видимому, об уме здравом. Но это лишь по-видимому. Психология доказывает, что и сильно расстроенные люди очень долго могут таить свои намерения и даже искусно прятать их под любою маской. Это во-первых. А во-вторых: для казни Владимира приключился повод – именно внимание к нему костромичей. Этого уже Иоанн стерпеть не мог, он слишком ревниво относился к власти своей. Она должна быть абсолютной и нераздельной, всякое ничтожное даже посягновение на нее наказывается смертью. Перед царем пусть все падет в прах, пусть все сравняется.
Не мог не сравняться и Новгород Великий, и здесь мы подошли к одной из самых кровавых страниц царствования Иоанна.
Новгород, униженный и обезличенный еще при деде Грозного, “сохранял еще некоторую величавость”, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в гражданском устройстве. Это беспокоило царя. Весной 1569 года он вывел из города 150 семейств и переселил их в Москву. Это не предвещало ничего хорошего. Гроза действительно скоро разразилась.
В декабре царь со старшим сыном, дружиною, со всем двором выступил из слободы, миновал Москву и пришел в Клин. Здесь, на первом этапе, он велел своим воинам начать войну, убийство и грабеж, хотя клиничане не подавали ни малейшего повода, чтобы их могли счесть за врагов тайных или явных. Дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни дорога усыпалась трупами “всех встречных”; подъехав к Твери, царь вспомнил, что здесь в монастыре сидит заключенный бывший митрополит Филипп. Он послал Скуратова задушить его. Дальше были разорены и ограблены Тверь, Медный, Торжок, Вышний Волочек и все места до Ильменя. Наконец 2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, чтобы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по 20 рублей, а кто не мог заплатить, того ставили на правеже, т.е. всенародно били и секли с утра до вечера. Опечатали также дворы всех богатых граждан; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями, жен и детей стерегли в домах. Ждали прибытия государя. Он прибыл 6-го, и началось нечто невообразимое. На другой же день избили всех монахов, бывших на правеже. 8-го царь вступил в самый Новгород. На Великом мосту его встретил архиепископ. Иоанн отказался принять благословение, грозно укорял его, но все же выслушал литургию, усердно молился и затем отправился в палаты архиепископа, где и сел за стол вместе с боярами. Вдруг царь завопил “гласом великим яростью”. Это был условный знак: архиепископа схватили, двор и казну его разграбили.
Начался суд над новгородцами.
Ежедневно приводили к Иоанну, восседавшему на троне вместе с сыном своим, от пятисот до тысячи и более новгородцев, били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, тащили на берег Волхова в то место, где река не замерзала зимой, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Воины московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из брошенных в воду выплывал, того кололи или рассекали на части, убийства продолжались пять недель и заключились общим грабежом: Иоанн с дружиною объехал все монастыри вокруг города, захватывая повсюду казну, велел опустошить дворы и кельи, истребить скот, хлеб, лошадей; предал также и весь Новгород грабежу и, сам разъезжая по улицам, наблюдал за ходом всеобщего разрушения. Толпы опричников и воинов были посланы и в пятины новгородские[5 - Древняя Новгородская область делилась на пятины, на пять частей (словарь В. Даля)], чтобы губить достояние и жизнь людей без разбора и ответа. “Сие, – сказано в летописи, – неисповедимое колебание, падение и разрушение Великого Новгорода продолжалось около шести недель. Наконец 12 февраля на рассвете государь призвал к себе именитых новгородцев из каждой улицы по одному человеку, воззрил на них оком милостивым и кротким и сказал: “Мужи новгородские, молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о христолюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов видимых и невидимых. Суди Бог изменнику моему Пимену и злым его советникам. На них взыщется кровь, здесь излиянная! Да умолкнет плач и рыдание, да утешится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в граде сем…” В виде эпилога к кровавой драме архиепископа посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою и бубнами в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и затем отправили под стражею в Москву.
Говорят, что в Новгороде за 6 недель погибло около 60 тысяч человек. Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро, и болезни довершили казнь царскую, так что священники в течение 6 или 7 месяцев, не успевая погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов…
Из Новгорода Иоанн отправился в Псков, готовя ему ту же участь. Случилось, однако, нечто неожиданное. Услышав о приближении царя, псковитяне готовились к смерти, прощались с жизнью и друг с другом. В полночь накануне дня, назначенного для казней, в городе никто не спал, молились в церквах, и из ближнего монастыря, где царь остановился, неожиданно послышался благовест и звон. Сердце его, пишут современники, чудесно умилилось. В непривычном порыве жалости Иоанн сказал воеводам своим: “Притупите мечи о камень! да перестанут убийства!” Вступив на другой день в город, он с изумлением увидел на всех улицах перед домами столы с изготовленными яствами: граждане, жены их, дети, держа хлеб и соль, преклоняли колена, благословляли и приветствовали царя. Эта покорность усмирила царя. Он выслушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу святого Всеволода и зашел в келью к старцу Николе. Пишут, что последний предложил в дар царю кусок сырого мяса. “Я христианин, – сказал Иоанн, – и не ем мяса в великий пост”. – “Ты делаешь хуже: питаешься человеческой плотью и кровью, забывая не только пост, но и Бога”, – отвечал старец.
Гроза миновала Псков, но собиралась над Москвой.
Там уже производилось следствие над соучастниками архиепископа Пимена. Каждая клевета и донос принимались, одному во внимание. Заключали в Москву многих знатных бояр и даже некоторых любимцев Иоанна – Басмановых и самого князя Вяземского, из рук которого царь принимал лекарства, только ему доверял все тайные планы свои. Вяземского обвинили, что он будто бы предуведомил новгородцев о готовившемся побоище. Царь поверил или сделал вид, что верит, несколько времени молчал и вдруг призвал Вяземского к себе и, рассуждая с ним о важнейших делах государственных, приказал между тем умертвить его лучших слуг. Возвращаясь домой, князь увидел их трупы и, не показывая ни изумления, ни жалости, прошел мимо, в надежде этим доказательством своей преданности обезоружить гнев Иоанна. Надежда не оправдалась: его заключили в тюрьму, пытали, а потом казнили.
Страшная была казнь! Необходимо показать, как изощрялся Иоанн в мучительстве – это единственная причина, почему приводим следующее ужасное описание.
“25 июля, среди большой торговой площади, в Китае-городе, поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер, и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы Опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился Царь на коне с любимым старшим сыном, с Боярами и Князьями, с Легионом кромешников, в стройном ополчении; позади шли осужденные числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн встал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел Опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая Москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли: вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: “Народ, увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?” Все ответствовали велегласно: “Да живет многие лета Государь Великий! да погибнут изменники!” Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровать им жизнь как менее виновным. Потом прочли обвинительный акт и вызвали Висковатого. Он хотел оправдываться, но кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был Казначей Фуников-Карцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал Царю: “Се кланяюся тебе в последний раз на земле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим!” Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою; он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копнем одного старца. Умертвили в 4 часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облитые кровью, с дымящимися мечами, стали пред Царем, восклицая: гайда! гайда! и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила; но отдал ее сыну, Царевичу Иоанну, а после вместе с материю и с женою Висковатого заточил в монастырь, где оне умерли с горести”.
Князь Вяземский умер во время пыток. Конец Алексея Басманова кажется еще более невероятным. Пишут, будто бы Иоанн принудил юного Федора Басманова убить своего отца! Федор убил на глазах царя, но не спасся от казни.
Еще несколько фактов. Михайловский воевода Казаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился[6 - Принял великий ангельский образ, схиму (словарь В. Даля)] в каком-то монастыре на берегу Оки. Царь послал за ним опричников и велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники – ангелы и должны лететь на небо. Вислов имел красавицу-жену: ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Случалось, что сам Иоанн принимал роль палача, что мы видели и раньше. Когда жертва по каким бы то ни было причинам ускользала из его рук, он мстил ее семье и родственникам. Малолетние дети князя Оленкина были заморены в тюрьме.
“Но смерть, – говорит Карамзин, – казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современников о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах: сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезали людей по суставам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины…”
“Царь в это время веселился. Из Новгорода и других областей присылали ему шутов и скоморохов вместе с медведями. Последними он травил людей в гневе и в забаву; видя иногда близ дворца толпу народа всегда мирного и тихого, приказывал выпускать несколько медведей и громко смеялся воплю и бегству устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить Царя прежде и после убийств, и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ими славился Князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какой-то шуткою, Царь вылил на него миску горячих щей: бедный смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом… обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. “Исцели слугу моего доброго, – сказал Царь, – я поиграл с ним неосторожно”. Так неосторожно (отвечал Арнольф), что разве Бог и твое Царское Величество может воскресить умершаго: в нем уже нет дыхания. Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода старицкий, Борис Титов, – поклонился до земли и величал его, как обыкновенно. Царь сказал: “будь здрав, любимый мой Воевода: ты достоин нашего жалованья” – и ножом отрезал ему ухо. Титов не изъявил ни малейшей чувствительности к боли, с лицом покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо! – Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питие, оставлял пир, громким криком сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так, он из-за роскошного обеда устремился растерзать Литовских пленников, сидевших в Московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки Царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у Россиян и надежду на будущее царствование! Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины: гайда! гапда! с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу”.
“К этим бедствиям присоединились голод и мор, опустошавшие Россию вплоть до 1572 года”
Невольно, после подобного описания, вырывается у Карамзина вопрос: “Кому больше следует удивляться: Царю ли, разрушающему собственное царство, или подданным, смиренно выносившим все беды, все муки, всяческую жестокость и издевательство?” Обе стороны заслуживают удивления, но теперь меня интересует лишь первая – сам Иоанн Грозный.
В дальнейшем ходе рассказа я не намерен уже подробно описывать казни и истязания: слишком много их, и простое перечисление заняло бы страницы. Довольно сказанного, так как и на основании приведенных данных возможно уже отметить специальный, болезненный характер мучительства Иоанна. Зло привлекало его к себе и привлекало неотразимо. Как пьяница чувствует себя совершенно расстроенным и бессильным, отданным во власть тоски, тем более гнетущей, что у нее нет “предмета”, – так чувствовал себя Иоанн, не видя долго пыток и агонии умирающих. Это, вероятно, самый существенный факт его духовной жизни. По мере того, как расстраивалось его воображение, как возрастало предсердечное томление (вещь, в медицине известная), – все большей необходимостью являлось мучительство. Потребность мучить, делать зло, оскорблять или унижать, потребность издеваться и злорадствовать есть в каждом из нас. Это почти бесспорный факт, но у нормального человека такая потребность нейтрализуется благожелательными побуждениями и лишь изредка выступает на сцену властно и повелительно. При известных же формах умственного расстройства – особенно же такого, которое находится в связи с половым исступлением – такая потребность является доминирующей: она бесконтрольно овладевает сознанием и настойчиво требует удовлетворения. Больному на самом деле легче, когда он причинит кому-нибудь страдание, услышит стоны и крики, увидит кровь. Ему нужно все это, необходимо нужно, и он оживляется, становится весел, шутлив, разговорчив. Мрачные больные, страдающие беспредметной тоской, особенно склонны к буйным выходкам. Эти выходки являются как бы клапаном тоски, как бы струей свежего воздуха, очищающего атмосферу, наполненную газом. Страшна здесь необходимость потребности, но она-то вместе с тем и указывает на расстройство. До казни, до пыток Иоанн бывал обыкновенно особенно мрачен, желание казнить и пытать являлось в нем сразу, вдруг, и он бросался, как мы видели, из-за неоконченной трапезы, чтобы бежать в застенок. Это вдруг тоже характерно, если говорить об острых приступах тоски и раздражения.
Эротическое исступление Иоанна почти несомненно. Он сам постоянно говорит о своем “распутстве”. “А мне, – пишет он Курбскому, – псу смердящему, кого учити, и чему наказать, и чем просветити? Сам всегда в пьянстве, и в блуде и в прелюбодействе обретаюсь”. Он повторяет то же признание в завещании 1572 года. О том же говорит Курбский и единогласно все современники, как русские, так и иностранные. Например, датский посол Ульфельд пишет: “Habet (Иоанн), ut aiunt in ginecaeo suo 50 virgines, et illustri familia oriandas eque Livonia abductas quas secum, quo se confert ducit, iis loco uxoris, cum ipse uxoratus non sit. utens”. “Жен и дщерей блудом оскверни”, – свидетельствует Кубасов. О его отношениях к Федору Басманову известно достаточно. Женатый 6 раз, он перед смертью замышлял 7-й брак и, лежа на постели, накануне кончины, так испугал любострастными поползновениями свою невестку, что та с омерзением убежала от него. Фактов для выводов довольно, и всякий, даже поверхностно знакомый с психопатологией, знает, что ненормальное сладострастие и жестокость идут всегда вместе.
По мере развития недуга возрастала потребность мучительства. Иоанн уже не удовлетворяется, как в юности, случайными жертвами, ему не нужно больше поводов для жестокости. Этот повод не только при нем всегда, но и всегда в нем самом. Ему мало единичного убийства, он устраивает целые бойни, после которых, как в Новгороде, является с лицом просветленным и даже кротким… Вырабатывается рядом с этим и артистичность. Иоанн сладострастно жесток, он смакует пытку, убивает на самый различный манер. Он наслаждается муками и, как человек уже пресыщенный, любит смаковать агонию. Простого убийства мало, убийство, которое больше всего привлекало Грозного, отличается тонкостью и изощренностью. В нем несколько моментов. Иоанн любит прежде всего неожиданность нападения, которая вызывает испуг. Наметив жертву, он становился особенно ласков с нею, внимателен и льстив. Упившись испугом и найдя новый, еще не испытанный вид казни, царь упивается агонией, и чем продолжительнее она – тем ему приятнее. В этой области он – артист, художник, и никто, даже изысканный в жестокости Людовик XI, не сравнится с ним. Формулы Калигулы “я хотел бы, чтобы у римлян была одна голова” – Иоанн не принял бы: слишком скоро можно отрубить одну голову. Надо напугать, надо издеваться, надо мучить…
Но из этого не следует, чтобы Иоанн был хронически болен. Его болезнь перемежающаяся и даже такая, которая окончательно сломить его могучего организма не могла. Находили периоды “жестокой мрачности” и исчезали, оставив за собою полосу крови и отвратительный запах поджарившихся на угольях живых тел. Казни и пытки обновляли дух его, и чем дальше, тем все более и более на короткое время.
А государственный характер казни? – спросит читатель. Разумеется, был и он и отрицать его нет ни малейшего основания. Борьба с боярским произволом – не пустая фраза в устах Грозного, не пустая фраза и вольность новгородская. В нем крепко засели московские традиции, установленные его отцом, дедом и раньше. Это – традиции всеобщего уравнения каким бы то ни было путем во имя возвеличения царской власти. Но эта государственная идея, воспринятая больным духом, приняла дикую и страшную форму. Казни гораздо меньше вызывались потребностью (хотя бы призрачной) жизни, чем царской натуры. Они были искусством для искусства, они были вечно неудачной, вечно возрождавшейся попыткой удовлетворять страсть мучительства. Но эта страсть не знает удовлетворения, зато слишком хорошо знает пресыщение, которое всегда и во всем заставляет изощряться. И Грозный изощрялся.
Будем продолжать наш рассказ, отметив предварительно один любопытный документ, относящийся к 1572 году. Документ этот – завещание Иоанна, написанное им в ожидании смерти. Как мы не раз уже видели, Грозный любил упражняться в добродетели на словах или бумаге. Так было и в этом случае. Начинается со строк, полных самоуничтожения :
“Се аз, худый раб Божий Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом, но разума не суетою одержим есмь и от убогого дому ума моего не могох представити трапезы, пищи Ангельских словес исполненны, понеже ум убо острупися, тело изнеможе, струпи телесны и душевны умножишась, и не сущу врачу исцеляющу мя; ждах, иже со мною поскорбить, и не бе; утешающих не обретох; воздаша ми злая воз благая и ненависть за возлюбление мое. Душою убо осквернен есмь и телом окалях, яко же убо от Иерусалимских Божественных заповедей к Иерихонским страстем пришед и прельстихся мира сего мимотекущею красотою… багряницею светлости и злата блещанием, и в разбойники впадох, мысленные и чувственные; помыслом и делом усынения благодати совлечен бых одеяния, и ранами исполумертв оставлен. Аще и жив есмь, но Богу скаредными свои делы паче мертвеца смраднейший и гнуснейший, его же Иерей видев не внят и Левит возгнушався премину: понеже от Адама и до сего дни всех преминух в беззакониях. Сего ради всеми ненавидим есмь. Каиново убийство прешед, Ламеху уподобихся, первому убийце; Исаву последовах скверным невоздержанием; Рувиму уподобихся, осквернившему отче ложе, – и иным многим яростью и гневом невоздержания… Разумом растленен бых и скошен умом, понеже убо самую главу оскверних желанием и мыслью неподобных дел, уста рассуждением убийства и блуда и всякого злого делания, язык срамословием, выю и перси гордостию и чаянием высокоглаголивого разума, руце осязанием неподобных, и граблением, и убийством, внутренняя помыслы всякими скверными, объядением и пьянством, чресла чрез естественным грехом и опоясанием на всяко дело зло… и иными неподобными глумлениями”.
Дальше идут советы детям, из которых видно, что Иоанн прекрасно понимал, что значит быть хорошим государем. “Заповедаю вам, – говорит он, – да любите друг друга и Бог мира да будет с вами. Аще бо сия сохраните, и вся благая достигнете”. И дальше в отношении к приближенным:
“А как людей держати и жаловати, и от них беречися, и во всем их умети к себе присвоивати, и вы бы тому навыкли же; а людей бы есте, которые вам прямо служат, жаловали и любили, и от всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и они прямее служат; а которые лихи, и вы б на тех опалы клали не вскоре, но по рассуждению, не яростию”.
Затем он советует навыкать всякому делу: и божественному, и священническому, и воинскому, и судейскому, и житейскому всякому обиходу, и “как которые чины ведутся здесь и в иных государствах… как кто живет и как кому пригоже быти”. Он заключает следующим изречением: “подобает убо царю три сия вещи имети; яко Богу не гневатися и яко смертну не возноситися и долготерпеливу быти к согрешающим”. Чего лучше?
Почему Иоанн готовился к смерти в 1572 году, мы не знаем: ему после завещания пришлось прожить еще целых 12 лет и вынести все муки униженного самолюбия. Пока дела шли блестяще, литовские послы не раз просили мира, Швеция была унижена. Больше всего беспокойств и горя доставляли крымцы, но в этом виноват был сам царь, не желавший действовать против них решительно. Напротив, в крымских делах он постоянно проявлял малодушие и готовность идти на уступки.
Весною 1572 года случилось нашествие хана Девлет-Гирея.
“Обойдя высланные против него войска, хан другим путем приближался к Серпухову, где был сам Иоанн с Опричниною. Требовалось решительности, великодушия: Царь бежал… в Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы; из Слободы к Ярославлю, чтобы спастися от неприятеля, спастися от изменников: ибо ему казалось, что и Воеводы, и Россия выдают его Татарам! Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства, а Хан уже стоял в тридцати верстах!”
На другой день Москва была сожжена. К счастью, Девлет-Гирей, напуганный ложными слухами о приближении Магнуса, повернул назад, но все же произведенное им разорение надолго осталось в памяти народа. В сношениях с Девлет-Гиреем Иоанн выказал характерную особенность своего характера. Грубый и заносчивый, когда на его долю выпадал успех, он совершенно не умел поддерживать своего достоинства в бедствиях. Так было и на этот раз.
Через своих послов хан обратился к нему с гордыми словами:
“Так говорит тебе Царь наш: Мы назывались друзьями, ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью: тогда усердно пойду на врагов твоих”. Сказав, гонец явил дары Ханские: нож, окованный золотом, и промолвил: “Девлет-Гирей носил его на бедре своем: носи и ты, Государь мой; еще хотел послать тебе коня, но кони наши утомились в земле твоей”. Иоанн отвергнул сей дар непристойный и велел читать Девлет-Гирееву грамоту: “Жгу и пустошу Россию (писал Хан) единственно за Казань и Астрахань, а богатство и деньги применяю к праху. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы твоей, но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы – и смеешь хвалиться своим Царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути Государства твоего: снова буду к тебе, если не освободишь Посла моего, бесполезно томимого неволею в России; если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих”.
В ответ на это Иоанн бил челом хану, обещал уступить Астрахань и, что особенно позорно, выдал татарам одного знатного крымского пленника, добровольно принявшего православие, на позор и муки…
В эти же дни неслыханных бедствий царь задумал жениться в третий раз и выбрал боярышню Сабурову. Но невеста занемогла, начала худеть, сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, и подозрение пало на близких родственников умерших цариц Анастасии и Марии. Начались розыски, пытки и казни, “пятая эпоха душегубства”, как выражается Карамзин. Князь Михайло Темрюкович был посажен на кол, хотя только что получил назначение быть воеводой; вельможу Яковлева засекли. Но что особенно ужасно – это женитьба царя на больной невесте, которая через 2 недели скончалась.
Он думал о четвертом браке и действительно совершил это “церковное беззаконие”, обвенчавшись с Анной Колтовской. Любопытно, что разрешение на брак он потребовал уже после, как бы усовестившись соблазна, и, созвав епископов, обратился к ним со следующею речью:
“Злые люди чародейством извели первую супругу мою, Анастасию. Вторая, Княжна Черкасская, также была отравлена, и в муках, в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста: юность их претила мне оставить мир; а жить в мире без жены соблазнительно. Благословенный Митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал; но зависть, вражда погубили Марфу, только именем Царицу: еще в невестах она лишилась здравия и чрез две недели супружества преставилась девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию Иноческому; но, видя опять жалкую младость сыновей и Государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак. Ныне, припадая с умилением, молю Святителей о разрешении и благословении”.
Епископы наложили на царя незначительную епитимию и признали брак законным.
Глава IV. Последние годы
Мы дошли до важного 1572 года. Дух Иоанна как бы просветлел, впрочем ненадолго. Царь вдруг уничтожил опричнину. Почему? Мы этого не знаем. Быть может, опричнина просто надоела ему; быть может, ожидая смерти, он на самом деле хотел сделать что-нибудь хорошее. При отсутствии документов можно решать вопрос так или иначе, и любое объяснение представится вероятным. Как бы то ни было, с этого года исчезает гнусное слово “опричнина”, и опальная земщина получает прежнее имя России. Неожиданно началось и преследование врагов задушенного митрополита Филиппа. Царь объявил их “наглыми клеветниками”, иных отправил в ссылку, иных лишил сана и своей милости. Оставался нетронутым лишь главный – Малюта Скуратов. Но Иоанн чувствовал к нему какую-то особенную, неизменную привязанность и не изменил ей до самой смерти Малюты. Была ли это любовь или дружба? Едва ли. Малюте, единственному, удалось убедить царя в своей неизменной привязанности. Он был идеальным опричником, всегда готовым на всякое зло без малейшего колебания. Иоанн верил, что Малюта не изменит ему, и тот оставался в прежней милости, несмотря на гибель Вяземского, Басмановых и т.д. Чтобы покончить с Малютой, скажем, что он умер в 1573 году при взятии Витгенштейна, умер “честною смертью воина”, сложив свою голову во время приступа. Узнав об этом, “Иоанн изъявил не жалость, а гнев и злобу: послав тело Малюты в монастырь Иосифа Волоцкого, он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев”.
Успехи в Ливонской войне продолжались. В воображении царя уже рисовалась полная победа над врагами, и, разгоряченный удачами, он проявлял свойственную ему наглость и самомнение. Привожу как образчик его ругательное письмо к королю шведскому, относящееся как раз к описываемому времени:
“Казним тебя и Швецию, – пишет он, – правые всегда торжествуют. Обманутые ложным слухом о вдовстве Екатерины, мы хотели иметь ее в руках своих единственно для того, чтобы отдать Королю Польскому, а за нее без кровопролитий взять Ливонию. Вот истина, вопреки клеветам вашим. Что мне в жене твоей? Стоит ли она войны? Польские королевны бывали и за конюхами. Спроси у людей знающих, кто был Бойдило при Ягайле? Не дорог мне и Король Эрик: смешно думать, чтобы я мыслил возвратить ему престол, для коего ни он, ни ты не родился. Скажи, чей сын отец твой? Как звали вашего деда? Пришли нам свою родословную; уличи нас в заблуждении: ибо мы доселе уверены, что вы крестьянского племени. О каких древних Королях Шведских ты писал к нам в своей грамоте? Был у вас один Король Магнус, и то самозванец: ибо ему надлежало бы именоваться Князем. Мы хотели иметь печать твою и титло Государя Шведского не даром, а за честь, коей ты от нас требовал; за честь сноситься прямо со мною, мимо Новгородских Наместников. Избирай любое: или имей дело с ними, как всегда бывало, или нам поддайся. Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о Варягах, которые находились в войске Самодержца Ярослава-Георгия, а Варяги были Шведы, следственно его подданные. Ты писал, что мы употребляем печать Римского Царства, нет, собственную нашу, прародительскую. Впрочем, и Римская не есть для нас чуждая: ибо мы происходим от Августа Кесаря. Не хвалимся и тебя не хулим, а говорим истину, да образумишься. Хочешь ли мира? да явятся Послы твои пред нами!”
В то же время Иоанн усиленно добивался польского престола. Мы знаем, что он потерпел в этом неудачу и вместо него был избран знаменитый князь Седмиградский Стефан Баторий – человек, от которого пришлось вынести Иоанну столько унижений. После этого избрания, прекратившего внутренние распри и неурядицы в Польше, надежды на завладение Ливонией должны были значительно ослабеть. Но Иоанн не расстался с ними и решился действовать еще энергичнее, чем прежде. Но тут-то и начался ряд неудач, упомянуть о которых нам необходимо. Прежде всего русским не удалось взять Ревеля, что значительно ободрило неприятеля. Восстали даже эстонские крестьяне и “истребляли русских без счету”. Царь собрал громадное, еще невиданное войско, и все думали, что он идет на Ревель. Неожиданно, однако, он вступил в пределы Польши. Это было 25 июля 1576 года, – день, когда и началась знаменитая война с Баторием. Иоанн был уверен в победе и, принявши смиренный вид, из-под которого, однако, сквозила сатанинская гордость и тщеславие, писал Курбскому следующее:
“Смирение да будет в сердце и на языке моем. Ведаю свои беззакония, уступающие лишь милосердию Божию: оно спасет меня по слову Евангельскому, что Господь радуется о едином кающемся грешнике более, чем о десяти праведниках. Сия пучина благости потопит грехи мучителя и блудника!.. Нет, не хвалюся честию: честь не моя, а Божия… Смотри, о Княже! судьбы Всевышнего. Вы, друзья Адашева и Сильвестра, хотели владеть Государством… и где же ныне? Вы, сверженные правосудием, кипя яростию, вопили, что не осталось мужей в России, что она без вас уже бессильна и беззащитна; но вас нет, а тверди Немецкие пали пред силою Креста Животворящего! Мы там, где вы не бывали… Нет, ты был здесь, но не в славе победы, а в стыде бегства, думая, что ты уже далеко от России, в убежище безопасном для измены, недоступном для ее мстителей. Здесь ты изрыгал хулы на Царя своего; но здесь ныне Царь, здесь Россия!.. Чем виновен я пред вам? Не вы ли, отняв у меня супругу милую, сделались истинными виновниками моих человеческих слабостей? Говорите о лютости Царя, хотев лишить его и престола, и жизни! Войною ли, кровию ли приобрел я Государство, быв Государем еще в колыбели? И Князь Владимир, любезный вам, изменникам, имел ли право на Державу, не только по своему роду, но и по личному достоинству, Князь, равно бессмысленный и неблагодарный, высшими отцами вверженный в темницу и мною освобожденный? Я стоял за себя: остервенение злодеев требовало суда неумолимого… Но не хочу многословия; довольно и сказанного. Дивися промыслу Небесному; войди в себя; рассуди о делах своих! Не гордость велит мне писать тебе, а любовь христианская, да воспоминанием исправишься и да спасется душа твоя”.
Курбский не отвечал ничего: он ждал момента, который был близок. Разумеется, смирение Иоанна не обмануло его. И кого могло обмануть оно? Продолжались по-прежнему казни и пытки, погиб в застенке лучший воевода Воротынский, погибли сотни других, и правых, и виноватых. Царь тешил себя пытками и свадьбами.
Вот рассказ Карамзина об этом:
“В сии годы необузданность Иоаннова явила новый соблазн в преступлении святых уставов Церкви, с бесстыдством неслыханным. Царица Анна скоро утратила нежность супруга, своим ли бесплодием, или единственно потому, что его любострастие, обманывая закон и совесть, искало новых предметов наслаждения: сия злосчастная, как некогда Соломония, должна была отказаться от света, заключилась в монастыре Тихвинском, и названная в монашестве или в схиме Дариею, жила там до 1626 года; а Царь, уже не соблюдая и легкой пристойности, уже не требуя благословения от Епископов, без всякого церковного разрешения женился (около 1575 года) в пятый раз на Анне Васильчиковой. Но не знаем, дал ли он ей имя Царицы, торжественно ли венчался с нею: ибо в описании его бракосочетаний нет сего пятого; не видим также никого из ее родственников при Дворе, в чинах, между Царскими людьми ближними. Она схоронена в Суздальской девичьей Обители, там, где лежит и Соломония. Шестою Иоанновою супругою – или, как пишут, женищем – была прекрасная вдова, Василиса Мелентъева. Он, без всяких иных священных обрядов, взял только молитву для сожития с нею! Увидим, что сим не кончились беззаконные женитьбы Царя, ненасытного в убийствах и в любострастии!”
Мне надо рассказывать теперь об успехах Батория. Напрасно первое время по восшествии на престол старался он примириться с Иоанном и устранить грозившее кровопролитие. Иоанн стоял на своем: “Ты, – писал он Баторию, – король, но не Ливонский”. Очевидно, королем Ливонским считал он самого себя. В 1578 году опять прибыли в Москву послы Батория, но и их переговоры о мире не имели успеха. Королю пришлось энергично приняться за дело. Выступив с войском, хотя немногочисленным, но прекрасно организованным, из Свора, он издал манифест к русскому народу, объявляя, что воюет против царя Московского, а не мирных жителей. В начале августа он осадил Полоцк и скоро взял его. За Полоцком пали Сокол, Красный, Козьян, Ситна и прочие. А царь, ничего не предпринимая и как бы дивясь успехам врага, стоял в Пскове. Чем объяснить удачи Батория? Это была удача талантливого полководца в борьбе с деспотом, систематически истреблявшим в своей земле все славное и выдающееся. Лучшие “мужи” давно уже погибли в застенках или на плахе, Иоанн действовал через своих клевретов и льстецов. Мог ли он рассчитывать на успех? Это обстоятельство прекрасно разъясняет Курбский в своем третьем письме к Иоанну:
“Где твои победы? – говорил он, – в могиле Героев, истинных Воевод Святой Руси, истребленных тобою. Король с малыми тысячами, единственно мужеством его сильными, в твоем Государстве, берет области и твердыни, некогда нами взятые, нами укрепленные; а ты с войском многочисленным сидишь, укрываешься за лесами, или бежишь, никем не гонимый, кроме совести, обличающей тебя в беззакониях. Вот плоды наставления, данного тебе лжесвятителем Вассианом! Един царствуешь без мудрых советников; един воюешь без гордых Воевод – и что же? Вместо любви и благословений народных, некогда сладостных твоему сердцу, стяжал ненависть и проклятия всемирные; вместо славы ратной, стыдом упиваешься: ибо нет доброго царствования без добрых Вельмож, и несметное войско без искусного Полководца есть стадо овец, разгоняемое шумом ветра и падением древесных листьев. Ласкатели не Синклиты, и карлы, увечные духом, не суть Воеводы. Не явно ли совершился суд Божий над тираном? Се глады и язва, меч варваров, пепел столицы и – что всего ужаснее – позор, позор для Венценосца, некогда столь знаменитого! Того ли мы хотели, то ли готовили ревностною, кровавою службою нашему древнему отечеству?..”
Не мог не сравняться и Новгород Великий, и здесь мы подошли к одной из самых кровавых страниц царствования Иоанна.
Новгород, униженный и обезличенный еще при деде Грозного, “сохранял еще некоторую величавость”, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в гражданском устройстве. Это беспокоило царя. Весной 1569 года он вывел из города 150 семейств и переселил их в Москву. Это не предвещало ничего хорошего. Гроза действительно скоро разразилась.
В декабре царь со старшим сыном, дружиною, со всем двором выступил из слободы, миновал Москву и пришел в Клин. Здесь, на первом этапе, он велел своим воинам начать войну, убийство и грабеж, хотя клиничане не подавали ни малейшего повода, чтобы их могли счесть за врагов тайных или явных. Дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни дорога усыпалась трупами “всех встречных”; подъехав к Твери, царь вспомнил, что здесь в монастыре сидит заключенный бывший митрополит Филипп. Он послал Скуратова задушить его. Дальше были разорены и ограблены Тверь, Медный, Торжок, Вышний Волочек и все места до Ильменя. Наконец 2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, чтобы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по 20 рублей, а кто не мог заплатить, того ставили на правеже, т.е. всенародно били и секли с утра до вечера. Опечатали также дворы всех богатых граждан; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями, жен и детей стерегли в домах. Ждали прибытия государя. Он прибыл 6-го, и началось нечто невообразимое. На другой же день избили всех монахов, бывших на правеже. 8-го царь вступил в самый Новгород. На Великом мосту его встретил архиепископ. Иоанн отказался принять благословение, грозно укорял его, но все же выслушал литургию, усердно молился и затем отправился в палаты архиепископа, где и сел за стол вместе с боярами. Вдруг царь завопил “гласом великим яростью”. Это был условный знак: архиепископа схватили, двор и казну его разграбили.
Начался суд над новгородцами.
Ежедневно приводили к Иоанну, восседавшему на троне вместе с сыном своим, от пятисот до тысячи и более новгородцев, били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, тащили на берег Волхова в то место, где река не замерзала зимой, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Воины московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из брошенных в воду выплывал, того кололи или рассекали на части, убийства продолжались пять недель и заключились общим грабежом: Иоанн с дружиною объехал все монастыри вокруг города, захватывая повсюду казну, велел опустошить дворы и кельи, истребить скот, хлеб, лошадей; предал также и весь Новгород грабежу и, сам разъезжая по улицам, наблюдал за ходом всеобщего разрушения. Толпы опричников и воинов были посланы и в пятины новгородские[5 - Древняя Новгородская область делилась на пятины, на пять частей (словарь В. Даля)], чтобы губить достояние и жизнь людей без разбора и ответа. “Сие, – сказано в летописи, – неисповедимое колебание, падение и разрушение Великого Новгорода продолжалось около шести недель. Наконец 12 февраля на рассвете государь призвал к себе именитых новгородцев из каждой улицы по одному человеку, воззрил на них оком милостивым и кротким и сказал: “Мужи новгородские, молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о христолюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов видимых и невидимых. Суди Бог изменнику моему Пимену и злым его советникам. На них взыщется кровь, здесь излиянная! Да умолкнет плач и рыдание, да утешится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в граде сем…” В виде эпилога к кровавой драме архиепископа посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою и бубнами в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и затем отправили под стражею в Москву.
Говорят, что в Новгороде за 6 недель погибло около 60 тысяч человек. Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро, и болезни довершили казнь царскую, так что священники в течение 6 или 7 месяцев, не успевая погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов…
Из Новгорода Иоанн отправился в Псков, готовя ему ту же участь. Случилось, однако, нечто неожиданное. Услышав о приближении царя, псковитяне готовились к смерти, прощались с жизнью и друг с другом. В полночь накануне дня, назначенного для казней, в городе никто не спал, молились в церквах, и из ближнего монастыря, где царь остановился, неожиданно послышался благовест и звон. Сердце его, пишут современники, чудесно умилилось. В непривычном порыве жалости Иоанн сказал воеводам своим: “Притупите мечи о камень! да перестанут убийства!” Вступив на другой день в город, он с изумлением увидел на всех улицах перед домами столы с изготовленными яствами: граждане, жены их, дети, держа хлеб и соль, преклоняли колена, благословляли и приветствовали царя. Эта покорность усмирила царя. Он выслушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу святого Всеволода и зашел в келью к старцу Николе. Пишут, что последний предложил в дар царю кусок сырого мяса. “Я христианин, – сказал Иоанн, – и не ем мяса в великий пост”. – “Ты делаешь хуже: питаешься человеческой плотью и кровью, забывая не только пост, но и Бога”, – отвечал старец.
Гроза миновала Псков, но собиралась над Москвой.
Там уже производилось следствие над соучастниками архиепископа Пимена. Каждая клевета и донос принимались, одному во внимание. Заключали в Москву многих знатных бояр и даже некоторых любимцев Иоанна – Басмановых и самого князя Вяземского, из рук которого царь принимал лекарства, только ему доверял все тайные планы свои. Вяземского обвинили, что он будто бы предуведомил новгородцев о готовившемся побоище. Царь поверил или сделал вид, что верит, несколько времени молчал и вдруг призвал Вяземского к себе и, рассуждая с ним о важнейших делах государственных, приказал между тем умертвить его лучших слуг. Возвращаясь домой, князь увидел их трупы и, не показывая ни изумления, ни жалости, прошел мимо, в надежде этим доказательством своей преданности обезоружить гнев Иоанна. Надежда не оправдалась: его заключили в тюрьму, пытали, а потом казнили.
Страшная была казнь! Необходимо показать, как изощрялся Иоанн в мучительстве – это единственная причина, почему приводим следующее ужасное описание.
“25 июля, среди большой торговой площади, в Китае-городе, поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер, и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы Опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился Царь на коне с любимым старшим сыном, с Боярами и Князьями, с Легионом кромешников, в стройном ополчении; позади шли осужденные числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн встал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел Опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая Москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли: вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: “Народ, увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?” Все ответствовали велегласно: “Да живет многие лета Государь Великий! да погибнут изменники!” Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровать им жизнь как менее виновным. Потом прочли обвинительный акт и вызвали Висковатого. Он хотел оправдываться, но кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был Казначей Фуников-Карцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал Царю: “Се кланяюся тебе в последний раз на земле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим!” Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою; он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копнем одного старца. Умертвили в 4 часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облитые кровью, с дымящимися мечами, стали пред Царем, восклицая: гайда! гайда! и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила; но отдал ее сыну, Царевичу Иоанну, а после вместе с материю и с женою Висковатого заточил в монастырь, где оне умерли с горести”.
Князь Вяземский умер во время пыток. Конец Алексея Басманова кажется еще более невероятным. Пишут, будто бы Иоанн принудил юного Федора Басманова убить своего отца! Федор убил на глазах царя, но не спасся от казни.
Еще несколько фактов. Михайловский воевода Казаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился[6 - Принял великий ангельский образ, схиму (словарь В. Даля)] в каком-то монастыре на берегу Оки. Царь послал за ним опричников и велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники – ангелы и должны лететь на небо. Вислов имел красавицу-жену: ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Случалось, что сам Иоанн принимал роль палача, что мы видели и раньше. Когда жертва по каким бы то ни было причинам ускользала из его рук, он мстил ее семье и родственникам. Малолетние дети князя Оленкина были заморены в тюрьме.
“Но смерть, – говорит Карамзин, – казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современников о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах: сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезали людей по суставам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины…”
“Царь в это время веселился. Из Новгорода и других областей присылали ему шутов и скоморохов вместе с медведями. Последними он травил людей в гневе и в забаву; видя иногда близ дворца толпу народа всегда мирного и тихого, приказывал выпускать несколько медведей и громко смеялся воплю и бегству устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить Царя прежде и после убийств, и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ими славился Князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какой-то шуткою, Царь вылил на него миску горячих щей: бедный смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом… обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. “Исцели слугу моего доброго, – сказал Царь, – я поиграл с ним неосторожно”. Так неосторожно (отвечал Арнольф), что разве Бог и твое Царское Величество может воскресить умершаго: в нем уже нет дыхания. Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода старицкий, Борис Титов, – поклонился до земли и величал его, как обыкновенно. Царь сказал: “будь здрав, любимый мой Воевода: ты достоин нашего жалованья” – и ножом отрезал ему ухо. Титов не изъявил ни малейшей чувствительности к боли, с лицом покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо! – Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питие, оставлял пир, громким криком сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так, он из-за роскошного обеда устремился растерзать Литовских пленников, сидевших в Московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки Царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у Россиян и надежду на будущее царствование! Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины: гайда! гапда! с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу”.
“К этим бедствиям присоединились голод и мор, опустошавшие Россию вплоть до 1572 года”
Невольно, после подобного описания, вырывается у Карамзина вопрос: “Кому больше следует удивляться: Царю ли, разрушающему собственное царство, или подданным, смиренно выносившим все беды, все муки, всяческую жестокость и издевательство?” Обе стороны заслуживают удивления, но теперь меня интересует лишь первая – сам Иоанн Грозный.
В дальнейшем ходе рассказа я не намерен уже подробно описывать казни и истязания: слишком много их, и простое перечисление заняло бы страницы. Довольно сказанного, так как и на основании приведенных данных возможно уже отметить специальный, болезненный характер мучительства Иоанна. Зло привлекало его к себе и привлекало неотразимо. Как пьяница чувствует себя совершенно расстроенным и бессильным, отданным во власть тоски, тем более гнетущей, что у нее нет “предмета”, – так чувствовал себя Иоанн, не видя долго пыток и агонии умирающих. Это, вероятно, самый существенный факт его духовной жизни. По мере того, как расстраивалось его воображение, как возрастало предсердечное томление (вещь, в медицине известная), – все большей необходимостью являлось мучительство. Потребность мучить, делать зло, оскорблять или унижать, потребность издеваться и злорадствовать есть в каждом из нас. Это почти бесспорный факт, но у нормального человека такая потребность нейтрализуется благожелательными побуждениями и лишь изредка выступает на сцену властно и повелительно. При известных же формах умственного расстройства – особенно же такого, которое находится в связи с половым исступлением – такая потребность является доминирующей: она бесконтрольно овладевает сознанием и настойчиво требует удовлетворения. Больному на самом деле легче, когда он причинит кому-нибудь страдание, услышит стоны и крики, увидит кровь. Ему нужно все это, необходимо нужно, и он оживляется, становится весел, шутлив, разговорчив. Мрачные больные, страдающие беспредметной тоской, особенно склонны к буйным выходкам. Эти выходки являются как бы клапаном тоски, как бы струей свежего воздуха, очищающего атмосферу, наполненную газом. Страшна здесь необходимость потребности, но она-то вместе с тем и указывает на расстройство. До казни, до пыток Иоанн бывал обыкновенно особенно мрачен, желание казнить и пытать являлось в нем сразу, вдруг, и он бросался, как мы видели, из-за неоконченной трапезы, чтобы бежать в застенок. Это вдруг тоже характерно, если говорить об острых приступах тоски и раздражения.
Эротическое исступление Иоанна почти несомненно. Он сам постоянно говорит о своем “распутстве”. “А мне, – пишет он Курбскому, – псу смердящему, кого учити, и чему наказать, и чем просветити? Сам всегда в пьянстве, и в блуде и в прелюбодействе обретаюсь”. Он повторяет то же признание в завещании 1572 года. О том же говорит Курбский и единогласно все современники, как русские, так и иностранные. Например, датский посол Ульфельд пишет: “Habet (Иоанн), ut aiunt in ginecaeo suo 50 virgines, et illustri familia oriandas eque Livonia abductas quas secum, quo se confert ducit, iis loco uxoris, cum ipse uxoratus non sit. utens”. “Жен и дщерей блудом оскверни”, – свидетельствует Кубасов. О его отношениях к Федору Басманову известно достаточно. Женатый 6 раз, он перед смертью замышлял 7-й брак и, лежа на постели, накануне кончины, так испугал любострастными поползновениями свою невестку, что та с омерзением убежала от него. Фактов для выводов довольно, и всякий, даже поверхностно знакомый с психопатологией, знает, что ненормальное сладострастие и жестокость идут всегда вместе.
По мере развития недуга возрастала потребность мучительства. Иоанн уже не удовлетворяется, как в юности, случайными жертвами, ему не нужно больше поводов для жестокости. Этот повод не только при нем всегда, но и всегда в нем самом. Ему мало единичного убийства, он устраивает целые бойни, после которых, как в Новгороде, является с лицом просветленным и даже кротким… Вырабатывается рядом с этим и артистичность. Иоанн сладострастно жесток, он смакует пытку, убивает на самый различный манер. Он наслаждается муками и, как человек уже пресыщенный, любит смаковать агонию. Простого убийства мало, убийство, которое больше всего привлекало Грозного, отличается тонкостью и изощренностью. В нем несколько моментов. Иоанн любит прежде всего неожиданность нападения, которая вызывает испуг. Наметив жертву, он становился особенно ласков с нею, внимателен и льстив. Упившись испугом и найдя новый, еще не испытанный вид казни, царь упивается агонией, и чем продолжительнее она – тем ему приятнее. В этой области он – артист, художник, и никто, даже изысканный в жестокости Людовик XI, не сравнится с ним. Формулы Калигулы “я хотел бы, чтобы у римлян была одна голова” – Иоанн не принял бы: слишком скоро можно отрубить одну голову. Надо напугать, надо издеваться, надо мучить…
Но из этого не следует, чтобы Иоанн был хронически болен. Его болезнь перемежающаяся и даже такая, которая окончательно сломить его могучего организма не могла. Находили периоды “жестокой мрачности” и исчезали, оставив за собою полосу крови и отвратительный запах поджарившихся на угольях живых тел. Казни и пытки обновляли дух его, и чем дальше, тем все более и более на короткое время.
А государственный характер казни? – спросит читатель. Разумеется, был и он и отрицать его нет ни малейшего основания. Борьба с боярским произволом – не пустая фраза в устах Грозного, не пустая фраза и вольность новгородская. В нем крепко засели московские традиции, установленные его отцом, дедом и раньше. Это – традиции всеобщего уравнения каким бы то ни было путем во имя возвеличения царской власти. Но эта государственная идея, воспринятая больным духом, приняла дикую и страшную форму. Казни гораздо меньше вызывались потребностью (хотя бы призрачной) жизни, чем царской натуры. Они были искусством для искусства, они были вечно неудачной, вечно возрождавшейся попыткой удовлетворять страсть мучительства. Но эта страсть не знает удовлетворения, зато слишком хорошо знает пресыщение, которое всегда и во всем заставляет изощряться. И Грозный изощрялся.
Будем продолжать наш рассказ, отметив предварительно один любопытный документ, относящийся к 1572 году. Документ этот – завещание Иоанна, написанное им в ожидании смерти. Как мы не раз уже видели, Грозный любил упражняться в добродетели на словах или бумаге. Так было и в этом случае. Начинается со строк, полных самоуничтожения :
“Се аз, худый раб Божий Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом, но разума не суетою одержим есмь и от убогого дому ума моего не могох представити трапезы, пищи Ангельских словес исполненны, понеже ум убо острупися, тело изнеможе, струпи телесны и душевны умножишась, и не сущу врачу исцеляющу мя; ждах, иже со мною поскорбить, и не бе; утешающих не обретох; воздаша ми злая воз благая и ненависть за возлюбление мое. Душою убо осквернен есмь и телом окалях, яко же убо от Иерусалимских Божественных заповедей к Иерихонским страстем пришед и прельстихся мира сего мимотекущею красотою… багряницею светлости и злата блещанием, и в разбойники впадох, мысленные и чувственные; помыслом и делом усынения благодати совлечен бых одеяния, и ранами исполумертв оставлен. Аще и жив есмь, но Богу скаредными свои делы паче мертвеца смраднейший и гнуснейший, его же Иерей видев не внят и Левит возгнушався премину: понеже от Адама и до сего дни всех преминух в беззакониях. Сего ради всеми ненавидим есмь. Каиново убийство прешед, Ламеху уподобихся, первому убийце; Исаву последовах скверным невоздержанием; Рувиму уподобихся, осквернившему отче ложе, – и иным многим яростью и гневом невоздержания… Разумом растленен бых и скошен умом, понеже убо самую главу оскверних желанием и мыслью неподобных дел, уста рассуждением убийства и блуда и всякого злого делания, язык срамословием, выю и перси гордостию и чаянием высокоглаголивого разума, руце осязанием неподобных, и граблением, и убийством, внутренняя помыслы всякими скверными, объядением и пьянством, чресла чрез естественным грехом и опоясанием на всяко дело зло… и иными неподобными глумлениями”.
Дальше идут советы детям, из которых видно, что Иоанн прекрасно понимал, что значит быть хорошим государем. “Заповедаю вам, – говорит он, – да любите друг друга и Бог мира да будет с вами. Аще бо сия сохраните, и вся благая достигнете”. И дальше в отношении к приближенным:
“А как людей держати и жаловати, и от них беречися, и во всем их умети к себе присвоивати, и вы бы тому навыкли же; а людей бы есте, которые вам прямо служат, жаловали и любили, и от всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и они прямее служат; а которые лихи, и вы б на тех опалы клали не вскоре, но по рассуждению, не яростию”.
Затем он советует навыкать всякому делу: и божественному, и священническому, и воинскому, и судейскому, и житейскому всякому обиходу, и “как которые чины ведутся здесь и в иных государствах… как кто живет и как кому пригоже быти”. Он заключает следующим изречением: “подобает убо царю три сия вещи имети; яко Богу не гневатися и яко смертну не возноситися и долготерпеливу быти к согрешающим”. Чего лучше?
Почему Иоанн готовился к смерти в 1572 году, мы не знаем: ему после завещания пришлось прожить еще целых 12 лет и вынести все муки униженного самолюбия. Пока дела шли блестяще, литовские послы не раз просили мира, Швеция была унижена. Больше всего беспокойств и горя доставляли крымцы, но в этом виноват был сам царь, не желавший действовать против них решительно. Напротив, в крымских делах он постоянно проявлял малодушие и готовность идти на уступки.
Весною 1572 года случилось нашествие хана Девлет-Гирея.
“Обойдя высланные против него войска, хан другим путем приближался к Серпухову, где был сам Иоанн с Опричниною. Требовалось решительности, великодушия: Царь бежал… в Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы; из Слободы к Ярославлю, чтобы спастися от неприятеля, спастися от изменников: ибо ему казалось, что и Воеводы, и Россия выдают его Татарам! Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства, а Хан уже стоял в тридцати верстах!”
На другой день Москва была сожжена. К счастью, Девлет-Гирей, напуганный ложными слухами о приближении Магнуса, повернул назад, но все же произведенное им разорение надолго осталось в памяти народа. В сношениях с Девлет-Гиреем Иоанн выказал характерную особенность своего характера. Грубый и заносчивый, когда на его долю выпадал успех, он совершенно не умел поддерживать своего достоинства в бедствиях. Так было и на этот раз.
Через своих послов хан обратился к нему с гордыми словами:
“Так говорит тебе Царь наш: Мы назывались друзьями, ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью: тогда усердно пойду на врагов твоих”. Сказав, гонец явил дары Ханские: нож, окованный золотом, и промолвил: “Девлет-Гирей носил его на бедре своем: носи и ты, Государь мой; еще хотел послать тебе коня, но кони наши утомились в земле твоей”. Иоанн отвергнул сей дар непристойный и велел читать Девлет-Гирееву грамоту: “Жгу и пустошу Россию (писал Хан) единственно за Казань и Астрахань, а богатство и деньги применяю к праху. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы твоей, но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы – и смеешь хвалиться своим Царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути Государства твоего: снова буду к тебе, если не освободишь Посла моего, бесполезно томимого неволею в России; если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих”.
В ответ на это Иоанн бил челом хану, обещал уступить Астрахань и, что особенно позорно, выдал татарам одного знатного крымского пленника, добровольно принявшего православие, на позор и муки…
В эти же дни неслыханных бедствий царь задумал жениться в третий раз и выбрал боярышню Сабурову. Но невеста занемогла, начала худеть, сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, и подозрение пало на близких родственников умерших цариц Анастасии и Марии. Начались розыски, пытки и казни, “пятая эпоха душегубства”, как выражается Карамзин. Князь Михайло Темрюкович был посажен на кол, хотя только что получил назначение быть воеводой; вельможу Яковлева засекли. Но что особенно ужасно – это женитьба царя на больной невесте, которая через 2 недели скончалась.
Он думал о четвертом браке и действительно совершил это “церковное беззаконие”, обвенчавшись с Анной Колтовской. Любопытно, что разрешение на брак он потребовал уже после, как бы усовестившись соблазна, и, созвав епископов, обратился к ним со следующею речью:
“Злые люди чародейством извели первую супругу мою, Анастасию. Вторая, Княжна Черкасская, также была отравлена, и в муках, в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста: юность их претила мне оставить мир; а жить в мире без жены соблазнительно. Благословенный Митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал; но зависть, вражда погубили Марфу, только именем Царицу: еще в невестах она лишилась здравия и чрез две недели супружества преставилась девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию Иноческому; но, видя опять жалкую младость сыновей и Государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак. Ныне, припадая с умилением, молю Святителей о разрешении и благословении”.
Епископы наложили на царя незначительную епитимию и признали брак законным.
Глава IV. Последние годы
Мы дошли до важного 1572 года. Дух Иоанна как бы просветлел, впрочем ненадолго. Царь вдруг уничтожил опричнину. Почему? Мы этого не знаем. Быть может, опричнина просто надоела ему; быть может, ожидая смерти, он на самом деле хотел сделать что-нибудь хорошее. При отсутствии документов можно решать вопрос так или иначе, и любое объяснение представится вероятным. Как бы то ни было, с этого года исчезает гнусное слово “опричнина”, и опальная земщина получает прежнее имя России. Неожиданно началось и преследование врагов задушенного митрополита Филиппа. Царь объявил их “наглыми клеветниками”, иных отправил в ссылку, иных лишил сана и своей милости. Оставался нетронутым лишь главный – Малюта Скуратов. Но Иоанн чувствовал к нему какую-то особенную, неизменную привязанность и не изменил ей до самой смерти Малюты. Была ли это любовь или дружба? Едва ли. Малюте, единственному, удалось убедить царя в своей неизменной привязанности. Он был идеальным опричником, всегда готовым на всякое зло без малейшего колебания. Иоанн верил, что Малюта не изменит ему, и тот оставался в прежней милости, несмотря на гибель Вяземского, Басмановых и т.д. Чтобы покончить с Малютой, скажем, что он умер в 1573 году при взятии Витгенштейна, умер “честною смертью воина”, сложив свою голову во время приступа. Узнав об этом, “Иоанн изъявил не жалость, а гнев и злобу: послав тело Малюты в монастырь Иосифа Волоцкого, он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев”.
Успехи в Ливонской войне продолжались. В воображении царя уже рисовалась полная победа над врагами, и, разгоряченный удачами, он проявлял свойственную ему наглость и самомнение. Привожу как образчик его ругательное письмо к королю шведскому, относящееся как раз к описываемому времени:
“Казним тебя и Швецию, – пишет он, – правые всегда торжествуют. Обманутые ложным слухом о вдовстве Екатерины, мы хотели иметь ее в руках своих единственно для того, чтобы отдать Королю Польскому, а за нее без кровопролитий взять Ливонию. Вот истина, вопреки клеветам вашим. Что мне в жене твоей? Стоит ли она войны? Польские королевны бывали и за конюхами. Спроси у людей знающих, кто был Бойдило при Ягайле? Не дорог мне и Король Эрик: смешно думать, чтобы я мыслил возвратить ему престол, для коего ни он, ни ты не родился. Скажи, чей сын отец твой? Как звали вашего деда? Пришли нам свою родословную; уличи нас в заблуждении: ибо мы доселе уверены, что вы крестьянского племени. О каких древних Королях Шведских ты писал к нам в своей грамоте? Был у вас один Король Магнус, и то самозванец: ибо ему надлежало бы именоваться Князем. Мы хотели иметь печать твою и титло Государя Шведского не даром, а за честь, коей ты от нас требовал; за честь сноситься прямо со мною, мимо Новгородских Наместников. Избирай любое: или имей дело с ними, как всегда бывало, или нам поддайся. Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о Варягах, которые находились в войске Самодержца Ярослава-Георгия, а Варяги были Шведы, следственно его подданные. Ты писал, что мы употребляем печать Римского Царства, нет, собственную нашу, прародительскую. Впрочем, и Римская не есть для нас чуждая: ибо мы происходим от Августа Кесаря. Не хвалимся и тебя не хулим, а говорим истину, да образумишься. Хочешь ли мира? да явятся Послы твои пред нами!”
В то же время Иоанн усиленно добивался польского престола. Мы знаем, что он потерпел в этом неудачу и вместо него был избран знаменитый князь Седмиградский Стефан Баторий – человек, от которого пришлось вынести Иоанну столько унижений. После этого избрания, прекратившего внутренние распри и неурядицы в Польше, надежды на завладение Ливонией должны были значительно ослабеть. Но Иоанн не расстался с ними и решился действовать еще энергичнее, чем прежде. Но тут-то и начался ряд неудач, упомянуть о которых нам необходимо. Прежде всего русским не удалось взять Ревеля, что значительно ободрило неприятеля. Восстали даже эстонские крестьяне и “истребляли русских без счету”. Царь собрал громадное, еще невиданное войско, и все думали, что он идет на Ревель. Неожиданно, однако, он вступил в пределы Польши. Это было 25 июля 1576 года, – день, когда и началась знаменитая война с Баторием. Иоанн был уверен в победе и, принявши смиренный вид, из-под которого, однако, сквозила сатанинская гордость и тщеславие, писал Курбскому следующее:
“Смирение да будет в сердце и на языке моем. Ведаю свои беззакония, уступающие лишь милосердию Божию: оно спасет меня по слову Евангельскому, что Господь радуется о едином кающемся грешнике более, чем о десяти праведниках. Сия пучина благости потопит грехи мучителя и блудника!.. Нет, не хвалюся честию: честь не моя, а Божия… Смотри, о Княже! судьбы Всевышнего. Вы, друзья Адашева и Сильвестра, хотели владеть Государством… и где же ныне? Вы, сверженные правосудием, кипя яростию, вопили, что не осталось мужей в России, что она без вас уже бессильна и беззащитна; но вас нет, а тверди Немецкие пали пред силою Креста Животворящего! Мы там, где вы не бывали… Нет, ты был здесь, но не в славе победы, а в стыде бегства, думая, что ты уже далеко от России, в убежище безопасном для измены, недоступном для ее мстителей. Здесь ты изрыгал хулы на Царя своего; но здесь ныне Царь, здесь Россия!.. Чем виновен я пред вам? Не вы ли, отняв у меня супругу милую, сделались истинными виновниками моих человеческих слабостей? Говорите о лютости Царя, хотев лишить его и престола, и жизни! Войною ли, кровию ли приобрел я Государство, быв Государем еще в колыбели? И Князь Владимир, любезный вам, изменникам, имел ли право на Державу, не только по своему роду, но и по личному достоинству, Князь, равно бессмысленный и неблагодарный, высшими отцами вверженный в темницу и мною освобожденный? Я стоял за себя: остервенение злодеев требовало суда неумолимого… Но не хочу многословия; довольно и сказанного. Дивися промыслу Небесному; войди в себя; рассуди о делах своих! Не гордость велит мне писать тебе, а любовь христианская, да воспоминанием исправишься и да спасется душа твоя”.
Курбский не отвечал ничего: он ждал момента, который был близок. Разумеется, смирение Иоанна не обмануло его. И кого могло обмануть оно? Продолжались по-прежнему казни и пытки, погиб в застенке лучший воевода Воротынский, погибли сотни других, и правых, и виноватых. Царь тешил себя пытками и свадьбами.
Вот рассказ Карамзина об этом:
“В сии годы необузданность Иоаннова явила новый соблазн в преступлении святых уставов Церкви, с бесстыдством неслыханным. Царица Анна скоро утратила нежность супруга, своим ли бесплодием, или единственно потому, что его любострастие, обманывая закон и совесть, искало новых предметов наслаждения: сия злосчастная, как некогда Соломония, должна была отказаться от света, заключилась в монастыре Тихвинском, и названная в монашестве или в схиме Дариею, жила там до 1626 года; а Царь, уже не соблюдая и легкой пристойности, уже не требуя благословения от Епископов, без всякого церковного разрешения женился (около 1575 года) в пятый раз на Анне Васильчиковой. Но не знаем, дал ли он ей имя Царицы, торжественно ли венчался с нею: ибо в описании его бракосочетаний нет сего пятого; не видим также никого из ее родственников при Дворе, в чинах, между Царскими людьми ближними. Она схоронена в Суздальской девичьей Обители, там, где лежит и Соломония. Шестою Иоанновою супругою – или, как пишут, женищем – была прекрасная вдова, Василиса Мелентъева. Он, без всяких иных священных обрядов, взял только молитву для сожития с нею! Увидим, что сим не кончились беззаконные женитьбы Царя, ненасытного в убийствах и в любострастии!”
Мне надо рассказывать теперь об успехах Батория. Напрасно первое время по восшествии на престол старался он примириться с Иоанном и устранить грозившее кровопролитие. Иоанн стоял на своем: “Ты, – писал он Баторию, – король, но не Ливонский”. Очевидно, королем Ливонским считал он самого себя. В 1578 году опять прибыли в Москву послы Батория, но и их переговоры о мире не имели успеха. Королю пришлось энергично приняться за дело. Выступив с войском, хотя немногочисленным, но прекрасно организованным, из Свора, он издал манифест к русскому народу, объявляя, что воюет против царя Московского, а не мирных жителей. В начале августа он осадил Полоцк и скоро взял его. За Полоцком пали Сокол, Красный, Козьян, Ситна и прочие. А царь, ничего не предпринимая и как бы дивясь успехам врага, стоял в Пскове. Чем объяснить удачи Батория? Это была удача талантливого полководца в борьбе с деспотом, систематически истреблявшим в своей земле все славное и выдающееся. Лучшие “мужи” давно уже погибли в застенках или на плахе, Иоанн действовал через своих клевретов и льстецов. Мог ли он рассчитывать на успех? Это обстоятельство прекрасно разъясняет Курбский в своем третьем письме к Иоанну:
“Где твои победы? – говорил он, – в могиле Героев, истинных Воевод Святой Руси, истребленных тобою. Король с малыми тысячами, единственно мужеством его сильными, в твоем Государстве, берет области и твердыни, некогда нами взятые, нами укрепленные; а ты с войском многочисленным сидишь, укрываешься за лесами, или бежишь, никем не гонимый, кроме совести, обличающей тебя в беззакониях. Вот плоды наставления, данного тебе лжесвятителем Вассианом! Един царствуешь без мудрых советников; един воюешь без гордых Воевод – и что же? Вместо любви и благословений народных, некогда сладостных твоему сердцу, стяжал ненависть и проклятия всемирные; вместо славы ратной, стыдом упиваешься: ибо нет доброго царствования без добрых Вельмож, и несметное войско без искусного Полководца есть стадо овец, разгоняемое шумом ветра и падением древесных листьев. Ласкатели не Синклиты, и карлы, увечные духом, не суть Воеводы. Не явно ли совершился суд Божий над тираном? Се глады и язва, меч варваров, пепел столицы и – что всего ужаснее – позор, позор для Венценосца, некогда столь знаменитого! Того ли мы хотели, то ли готовили ревностною, кровавою службою нашему древнему отечеству?..”