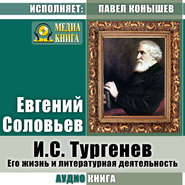По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Н.В. Шелгунов не был крупной литературной силой и долгое время занимал второстепенное место в журналистике, но все недостатки его таланта искупались полной искренностью, сердечностью и чуткостью, с какой он относился к вопросам времени. Получив специальное образование лесничего, Шелгунов, охваченный массовым возбуждением, презрел улыбавшуюся ему карьеру чиновника и мужественно вступил на литературную дорогу, которой не покидал уже до конца своих дней. Среди хронической бедности и лишений Шелгунов ни разу не пожалел о своей измене лесничеству и департаменту, и вплоть до гробовой доски горел теми же чувствами, тою же любовью, которые одушевляли его в юные годы. Про эти свои юные годы он как-то заметил: “Я вернулся из-за границы еще в большем чаду, чем туда поехал. Но в этом чаду было много силы и самых лучших желаний. То был чад молодости, который зовется любовью”. Не претендуя на первое место, не зная язвы тщеславия, губящей теперь столько хороших людей, Шелгунов скромно занимался черной и невидной литературной работой, веруя в ее пользу и необходимость. Мягкий и добродушный, он легко сходился с людьми, да и вообще его тянуло к ним. Рассказывая нам о шестидесятых годах, он с особенным удовольствием вспоминает о коллективной силе и коллективных стремлениях того времени. Его радует, что все хотели учиться и все хотели работать. Он утверждает, что с “такой коллективно направленной на благо силой можно было совершать чудеса и что несколько чудес действительно совершилось”. Пущенное им в оборот название “идеалист земли” ближе всего подходит к нему самому, и этот идеализм неизменно пребывал в его любящем и искреннем сердце. Хотя его собственная известность в шестидесятые годы совершенно утопала в лучах славы, окружавшей Писарева, он не завидовал, а даже радовался, что не перевелись на Руси большие и смелые люди.
О других сотрудниках “Русского слова” я не считаю нужным говорить и ограничусь лишь замечанием, что в их компании жить было можно и что если они не всегда симпатизировали друг другу как личностям, то в сообществе писателей составляли дружный и выдержанный хор. Историк журналистики помянет их когда-нибудь добрым словом.
В общем, заметим, что благодаря, главным образом, статьям Писарева “Русское слово” представляло из себя отдельную, ярко очерченную литературную группу, поставившую на своем писательском знамени девиз: “свобода личности”. Эта-то свобода и борьба с духом крепостничества в области чувств, идей и убеждений и давала “Русскому слову” право на самостоятельное существование. Проникнутый рационалистическим духом, журнал этот все задачи времени сводил, главным образом, к просвещению масс и демократизации наук.
То и другое было вместе с тем и краеугольными камнями миросозерцания Писарева.
Университетский курс между тем приближался к концу.
“Я, – рассказывает Писарев, – почти не ходил на лекции, но работал сильно. После приезда с каникул я решился писать диссертацию на медаль, на историческую тему, заданную Иронианским.[18 - Об Аполлонии Тианском. Иронианский – профессор Благовещенский.] Предприятие было дерзкое. Тема была задана в начале февраля, в то время, как я еще отрицал солнце и луну; кто писал на эту тему, тот принялся за работу тотчас же после объявления задачи, а я начал изучать предмет диссертации в начале октября, между тем как все сочинения должны быть представлены никак не позже первых чисел января. Месяц был употреблен на чтение и выписки, а в ноябре я принялся писать. Дело пошло быстро и успешно, отчасти на живую нитку, кое-где на авось, с широкими взглядами и рискованными обобщениями. Я писал без черновой, потому что переписывать было бы некогда, и старался обработать предмет так, чтобы произведение мое могло быть помещено в каком-нибудь журнале. К началу января я кончил свой труд и заметил не без удовольствия, что в нем, по крайней мере, 15 печатных листов. Впрочем, недостаток времени помешал мне развить некоторые мысли, которые были уже совсем выработаны в моем уме; делать было нечего: я махнул на них рукою, написал на своей диссертации эпиграф “еже писах, писах” и представил ее, куда следует”.
“Еже писах” оказалось, однако, произведением настолько блестящим и талантливым, что Писареву присудили серебряную медаль, но многие из профессоров требовали для него золотой. Но золотая досталась его конкуренту Утину “за обстоятельность и основательность”. Писарев со спокойным сердцем удовлетворился и серебряной, тем более что работа была зачтена ему за диссертацию. Чтобы закончить с “Аполлонием Тианским”, скажем, что редакция “Русского слова” открыла для него страницы своего журнала и выплатила Писареву что-то рублей 600.
Весной 1861 года университетский курс Писаревым был закончен, и притом не формально закончен, но и по существу. Писарев махнул рукой на свои юношеские мечты о профессуре, о чистой науке и весь с головой погрузился в журналистику. С этих пор и надолго журналистика – его пища духовная, смысл и красота его умственного бытия. Связь со старыми товарищами оборвалась…
“Русское слово”, – рассказывает он, – было преисполненно суеты и гордости, и благонравные товарищи мои, состоявшие уже на действительной службе, бросили на меня прощальный взгляд, полный укора и сожаления, когда увидели, что я беззаботно и весело пошел по скользкому пути журналиста. На статьи мои они смотрели с глубоким презрением, меня самого они решительно и откровенно исключили из своего круга. О читатель, и это неправдоподобно, но и это правда. Они считали меня ренегатом, маленьким Брамбеусом, недостойным сыном университетской науки, обратившимся против родной матери, и, надо сказать правду, они не ошибались в этом отношении. Мог ли же я ожидать после этого себе помилования? Вижу и понимаю, что мои товарищи, бывшие филологи – люди честные и умные, вполне достойные уважения и сочувствия, но вижу также, что мне с ними уже не сойтись. Им предстоят две дороги, и ни на одной из этих дорог я не встречусь с ними. Они могут продолжать с успехом свою службу в разных департаментах и сделаться через несколько лет просвещенными администраторами; или они могут осуществить свою университетскую мечту – сделаться светилами общественной науки. Очевидно, что журналист, исполненный суеты и гордости, ни администратором, ни светилом быть не может; очевидно даже, что он и знакомства водить не может ни с администраторами, ни со светилами, потому что он им совсем не пара, стоят они на разных плоскостях, живут в разных мирах, смотрят на вещи с различных точек зрения и приходят разными путями к противоположным выводам и результатам. Стало быть, мне остается только, вспоминая о моих добрых и честных товарищах, послать им на этих страницах последнее дружеское прости и уверить, что я, со своей стороны, всегда готов и рад с ними сойтись и что в то же время я не вижу к тому ни возможности теперь, ни надежды – в будущем”.
Следовательно, alea est jacta.[19 - Жребий брошен (лат.).] Университетский Рубикон перейден и впереди – сознательно и радостно избранный скользкий путь журналиста. Разумеется, разрыв с товарищами, особенно с Трескиным, не мог не доставить Писареву многих тяжелых минут, и сколько горечи в его шутливых словах: “Литератор не может даже знакомства вести с администраторами и светилами”, тем более что Трескин действительно грубо отказался вести знакомство с Писаревым после первых же статей последнего в “Русском слове”, – но все же Писарев был бодр и радостен духом: будущее улыбалось ему.
Даже амурная канитель с кузиной шла довольно благоприятно, но так как нового в этой канители пока еще ничего не случилось, то гораздо любопытнее остановиться на одном из писем Писарева к матери, где он оправдывает свою возлюбленную от упреков в безнравственности.
“Раиса живет у Ан. Д., потому что нигде она не может жить до такой степени свободно и сообразно со своими желаниями и наклонностями. Она окружена мужчинами – это правда, но она любит общество мужчин гораздо больше общества женщин, потому что при теперешнем состоянии общества умных и развитых мужчин гораздо больше, чем умных и развитых женщин. У Раисы каждый день бывают Гарднер и Хрущев; я нахожу это совершенно законным, во-первых, потому что вижу, что Раиса приятно проводит с ними время, во-вторых, потому, что мне самому с ними весело. Что касается до qu'en dira-t-on, то я никогда не сделаю ни шагу, чтобы изменить о себе мнение света в ту или другую сторону, за исключением того случая, когда это мнение может принести мне какие-нибудь существенные выгоды и наслаждения. Могу тебе поклясться, что между этими людьми у Раисы нет любовника, а если бы и был таковой, то ни ее отец, ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в ее дела. Selon mes convictions la femme est libre d'esprit et de corps et elle peut disposer de sa personne sans en rendre compte m?me ? son mari. Si une femme, qui pouvait jouir de la vie, ne l'a pas fait, il n'y a pas de vertu la dedans, une telle conduite est un resultat d'une masse des prеjugеs qui gеnent et qui produisent des e mpechements inutils et imaginaires. La vie est belle et il faut en jouir, c'est sous ce point de vue que je la consid?re et que je trouve bon et juste, que chacun r?gle sa conduite sur cette belle maxime”.[20 - Согласно с моими убеждениями женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ею, то в этом нет добродетели. Такое поведение является результатом массы предрассудков, которые стесняют и производят бесполезные и воображаемые затруднения. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. С такой точки зрения смотрю я на нее и нахожу справедливым, чтобы каждый руководился тем же великолепным правилом (фр.).]
Взглядам на женщину, изложенным в этом письме, Писарев остался верен всю свою жизнь. Это – та же эмансипация личности.
Характерна, между прочим, фраза: “жизнь прекрасна, нужно ею наслаждаться, и я нахожу справедливым, чтобы каждый руководился в своем поведении этим прекрасным правилом”. Ясно, что и в статьях, и в письмах, и в разговорах Писарев проводил в это время те же взгляды эпикурейского эгоизма. Он чувствовал себя молодым, бодрым, полным сил, вся жизнь сосредоточилась для него в одной его собственной личности, и он знать не хотел ни долга, ни обязательств, ни “расплаты”… Откровенно писал он матери:
“Было бы, конечно, изящнее с моей стороны, если бы вместо того, чтобы разбрасывать деньги, я ими помогал семейству, как это делает, например, Трескин. Но у меня нет этого влечения; чем больше я вглядываюсь в себя, тем более убеждаюсь в том, что, кроме Раисы, я никого не люблю. Все остальные люди, ты, Верочка, папа, Благосветлов, Жуковский, доставляют мне больше или меньше удовольствия, и я сообразно с этим люблю с ними бывать”.
В эгоизме Писарева за этот период есть что-то молодое, вызывающее, воинствующее. Он несколько даже бравирует им. “Для меня, – пишет он другой раз, – каждый человек существует настолько, насколько он приносит мне удовольствия. Это не теория, это не фраза, это самая откровенная исповедь. Как я перестаю видеть человека, так он перестает существовать для меня на время разлуки”.
Писарев часто говорил о том, что он живет лишь настоящим, и оттого счастлив и бодр всегда, а свою теорию эгоизма высказывает матери с жесткой откровенностью. Такой была его натура, что он ни во имя чего, ни ради чего кривить душой не соглашался, а говорил по настроению.
Настроение же было воинствующее, эпикурейское. Но уже и в это время оно начинало “расширяться” и принимать в себя новые элементы, за развитием которых мы будем следить с особенной тщательностью. С этой точки зрения любопытно хотя бы вкратце познакомиться с его статьей “Схоластика XIX века”… В общих чертах я напомню ее читателю.
Но пока одно маленькое замечание. Эгоизм Писарева столько раз вызывал благородное негодование, что это наконец надоело, почему я и питаю надежду, что читатель благоразумно воздержится от него и прочтет нижеследующие страницы, где тот же эгоизм является перед нами совершенно в другом виде. Однако из песни слова не выкинешь, не выкинешь и из истории умственного развития Писарева целого периода, когда он, следуя настроению – несколько теоретическому, во всяком случае, – является перед нами в образе ликующего эпикурейца, которому, действительно, сам черт не брат. Как идея эмансипации личности и абсолютной ее свободы запала в душу Писарева – мы знаем, но он не просто развивал ее, он утрировал ее, доводя до абсурда. Многое повинно в этой утрировке… Повинны прежде всего те пеленки, в которых держали его в годы детства и юности, и чем туже были затянуты эти пеленки, тем энергичнее должны были быть телодвижения человека, освободившегося от них; повинны 20 лет и инстинктивное сознание собственной могучей силы, твердо веровавшей, что она горы с места сдвинет; повинен аналитический склад ума, доводивший каждое положение до последних результатов, хотя бы эти результаты заканчивались глухим переулком.
Впрочем, даже в минуты наиболее сильного, воинствующего увлечения, ничего “лохматого” не было в эгоизме Писарева. Следуя своему приему, я обращаюсь к письмам Писарева и в одном из них укажу на нижеследующее изложение эгоизма, порядочность и осмысленность которого должны признать все не зараженные ханжеством или нравственным сплином.
“Любить свою личность, – пишет Писарев, – и наслаждаться уважением к самому себе – это самый чистый, самый законный и самый высокий источник радости. Ты, мама, сама думаешь в этом отношении совершенно так же, как я, только на твоем языке эти вещи называются иначе: они называются наслаждаться спокойствием совести, и ты вероятно согласишься, что ставить это наслаждение выше всех прочих – вовсе не есть признак дурного воспитания. То, что ты называешь совестью, и то, что я называю рассудком, в сущности одно и то же; только второе ясно и сознательно, а первое туманно и инстинктивно. Я действительно люблю и уважаю самого себя; принято думать, что это нехорошо, а ты повторяешь принятое мнение, отчасти для того, чтобы дать мне маленькую нахлобучку. Но почему же нехорошо? Разве эта любовь к себе, дающая возможность переносить весело то, что обыкновенно считается несчастьем, разве эта любовь заставляет меня засыпать на лаврах, разве она мешает моему дальнейшему развитию? Разве я воображаю себя, например, великим писателем, которому не надо учиться, читать, работать над самим собой? Да, чем больше я себя люблю, тем больше я забочусь, чтобы развернуть свой ум до последних пределов. Каждый успех мой всегда заставлял меня работать вдвое сильнее и вдвое успешнее прежнего. Я рассуждаю так: если у меня есть ум, талант, энергия, то глупо же будет, если я не сумею воспользоваться этим добром, а пользоваться им – значит, во-первых, беречь свое здоровье, во-вторых, развивать свои способности хорошим чтением и, в-третьих, работать как можно усерднее, честнее и добросовестнее. И чем больше я замечаю в себе хороших способностей, тем строже я становлюсь к своей работе, хочу делать ее не спустя рукава, а во всю силу.
Неужели ты во всем этом найдешь что-нибудь дурное? Потом еще принято думать, что человек, который очень любит и уважает самого себя, должен непременно стараться о том, чтобы возвыситься над другими и вследствие этого должен непременно оскорблять других своим самолюбием. Ты меня знаешь; ну, скажи же мне по чистой совести, старался ли я когда-нибудь стать выше других?…”
ГЛАВА VII
Дебюты Писарева в “Русском слове” были удачны. Но особенно много разговоров, толков и споров возбудила его статья “Схоластика XIX века” (март 1861 г.). Надо, впрочем, заметить, что сам Писарев относился впоследствии очень пренебрежительно к своей “Схоластике”.
“Мою схоластику, – говорит он в письме к матери, – я в 61– м г. писал положительно по слухам, о нашей литературе и критике я не имел почти никакого понятия, и удивляюсь теперь только двум вещам: во-первых, как я не наврал там еще больше чепухи, и, во-вторых, как те серьезные люди, которые писали об этой статье, не разобрали, на каких жидких основаниях она построена” (1864).
Писарев несколько преувеличивает дело. Что он в то время не знал ни литературы, ни критики – это несомненно, но в “Схоластике” – зародыш его будущих “Реалистов” и вообще самых ярких его статей. Кстати, надо заметить, что эта же “Схоластика” дала ему вполне определенное место в журналистике.
Прежде всего, Писарев говорит об обязанностях литературы: “литература во всех своих видоизменениях должна бить в одну точку: она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремления к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны”.
Но вместо этого – несмотря на то, что перед литературой стоит такое важное, живое дело, как эмансипация личности, – она занимается собственными кружковыми интересами, посвящает публику в нисколько не интересные ей литературные распри, а к вопросам жизни, науки, искусства подходит как-то робко, с оглядкой. Надо быть не только ближе к действительности, но и питаться ею, волноваться ею, изучать ее и освещать ее. Но “жизнь идет мимо литературы, а журнальные теории одна за другою сдаются в архив и умирают”. Современная же критика грешит именно тем, что она задается теориями и изобретает жизнь вместо того, чтобы приглядываться и прислушиваться к звукам окружающей действительности.
И для кого существует литература? Для незначительного кружка избранных, так как господа литераторы не желают спуститься до той требующей умственной пищи части общества, которая стоит на рубеже между народом и интеллигенцией, и “как будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаний сверху вниз”. Словом, средние и низшие слои интеллигенции игнорируются журналистикой. Как же подойти к ним, как же сблизиться с ними? Для этого, прежде всего, надо стоять на почве практической деятельности, на почве факта, надо почаще прибегать к здравому смыслу вместо отвлеченных и книжных теорий.
“Не будем, – продолжает Писарев, – обманывать самих себя; ведь мы должны писать для общества, следовательно, должны заниматься тем, что всем доступно и всем должно принести пользу. Какой-нибудь общественный скандал в данную минуту интересует публику гораздо больше, нежели решение вопроса о том, существуют ли у нас западники или славянофилы: по поводу этого общественного скандала вы можете развить несколько светлых идей и заронить в ваших читателях кое-какие задатки развития и движения вперед. Спрашивается, по какому же побуждению вы не воспользуетесь этим случаем? Потому, скажете вы, что не желаете уронить достоинство идеи, не желаете вмешаться в толпу крикунов, свистунов и пр. Что за щепетильность, что за отвлеченность, что за брезгливость, что за фешенебельное и в то же время педантическое презрение к идеям, которые волнуют окружающих вас людей!..”
А между тем литература должна и может совершить великое дело – помочь своим читателям выработать миросозерцание, действующее и практическое. Для этого надо спуститься с высоты теории, так как “народ хитрее стал, и ни на какую штуку не ловится… Ум наш требует фактов, доказательств, фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов”.
Что же это за практическое, действующее миросозерцание, которое необходимо, чтобы каждый был работником?
“Если бы все в строгом смысле слова были эгоистами по убеждениям, т. е. заботились только о себе и повиновались бы одному влечению чувства, то, право, тогда привольнее было бы жить на белом свете, нежели теперь, когда о вас заботятся чуть не с колыбели сотни людей, которых вы почти не знаете и которые не знают вас как личность, а как единицу, как члена местного общества, как неделимое, носящее то или другое фамильное прозвище”.
Итак, прежде всего надо эмансипировать свою личность от идеи долга и обязанности и свободно отдаться влечению своей натуры, которая прежде всего хочет личного счастья и наслаждения. Не надо ставить себе цели жизни с точки зрения какого-нибудь общего отвлеченного идеала…
“Если, – говорит Писарев, – вы поставите себе цель жизни, несовместную с вашими наклонностями, тогда вы испортите себе свою жизнь; вы потратите всю энергию на борьбу с собой; если не победите себя, то останетесь недовольны; если победите себя, тогда вы сделаетесь автоматом, чисто рассудочным, сухим и вялым человеком. Старайтесь жить полною жизнью, не дрессируйте и не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности в угоду заведенному порядку и вкусу толпы – и, живя таким образом, не спрашивайте о цели. Цель сама найдется, и жизнь решит вопросы прежде, нежели вы их предложите”.
Влечение и наклонность должны явиться определяющими факторами деятельности. И хотя Писарев прекрасно понимал, что эмансипация личности и уважение к ее самостоятельности являются последним продуктом позднейшей цивилизации, – все же литература должна бить в эту точку, оставив свое преклонение перед “фокусами и подвигами самопожертвования”… Иначе, “оставаясь для нас незаметным”, это умственное и нравственное рабство медленным ядом отравляет нашу жизнь. Мы умышленно раздваиваем свое существо, наблюдаем за собой, как за опасным врагом, хитрим перед собою и ловим себя в хитрости, боремся с собою, побеждаем себя, находим в себе животные инстинкты и ополчаемся на них силою мысли; вся эта глупая комедия кончается тем, что перед смертью мы, подобно римскому императору Августу, можем спросить у окружающих людей: “Хорошо ли я сыграл свою роль?” Нечего сказать! Приятное и достойное препровождение времени. Поневоле вспомнишь слова Нестора: “Никто же их бияше, сами ся мучаху”.
Затем Писарев посвящает несколько злых страниц господам спиритуалистам, идеалистам и супранатуралистам, решительно заявляет, что не хочет видеть в жизни “ни цели, ни идеала, а лишь один процесс, который человек может приспособить себе и наслаждаться им”, и, наконец, еще раз энергично высказывает свою задушевную мысль о необходимости и возможности демократизировать науку, искусство и литературу, избавить их от теоретичности и идеализма и, сделав их доступными для каждой эмансипированной или желающей эмансипироваться личности, тем самым дать ей прочный фундамент для деятельности.
“Отвлеченности (т. е. идеализм, спиритуализм, супранатурализм и пр.) могут быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительного меньшинства. Поэтому ополчаться всеми силами против отвлеченности в науке мы имеем полное право по двум причинам: во-первых, во имя целостности человеческой личности, во-вторых, во имя того здравого принципа, который, постепенно проникая в общественное сознание, нечувствительно сглаживает грани сословий и разбивает кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизм – явление опасное именно потому, что он действует незаметно и не высказывается в резких формах. Монополия знаний и гуманного развития представляет, конечно, одну из самых вредных монополий. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли из естественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мешают жить, если они разъединяют людей, если они кладут основание кастам, так и Бог с ними, мы их знать не хотим; но это неправда: истинная наука ведет к осязательному знанию, а то, что осязательно, что можно ощупать руками и рассмотреть глазами, то поймет и десятилетний ребенок, и простой мужик, и светский человек, и ученый специалист”.
Что же, в сущности, за вещь такая схоластика XIX века? Схоластика XIX века – это, прежде всего, идея долга и обязанности, которая надевает на личность нравственные путы, это те теории, которые отвлекают личность от действительного, очевидного, практического, заставляют ее бояться самой себя, голоса своей натуры, своих наклонностей и мешают ей, “приспособив к себе процесс бытия, наслаждаться им”…
Но в “Схоластике” есть и более существенная часть, т. е. все те страницы, которые посвящены требованию демократизировать науку, искусство и литературу. По этому поводу Писарев делает глубокое замечание, что все схоластическое гнездится в кружковщине. Вынесите науку, литературу, искусство на свежий воздух, постарайтесь сделать их очевидными и доступными для массы, для всех, а не только для специалистов или преподавателей какой-нибудь ученой или литературной касты, и вы увидите, как много ненужного отпадет при этом, и все оплодотворится действительными потребностями насущной жизни.
Если есть “умственный аристократизм”, то миросозерцание, изложенное в “Схоластике XIX века”, может быть названо “умственным демократизмом”. Я говорю “умственным”, потому что эволюцию ума, развитие критической мысли, прогресс науки Писарев всегда ставил во главе исторического развития. В этом случае он смело может быть назван учеником Бокля и Конта, но учеником-демократом, для которого столько же важен прогресс науки, сколько распространение этого прогресса в массе.
Проницательный читатель понимает, кроме того, как теория пользы легко может вырасти на этой почве убежденного демократизма. Но об этом ниже. Пока – несколько фактов из жизни Писарева.
Успех статей Писарева в “Русском слове” был настолько очевиден, что в скором времени Благосветлов сделал его своим помощником.
“Конечно, – писал впоследствии Писарев матери про эту эпоху своей жизни, – у меня не было тогда ни малейшей практической опытности, и я толковал о жизни как совершенный ребенок, но я чувствовал в себе присутствие таких сил и такой энергии, которые непременно должны были очень быстро выдвинуть меня вперед. И разве это чувство обмануло меня? Разве я теперь поменялся бы своим положением с кем-нибудь из своих товарищей? Уже в конце 61– го года, когда литературная карьера моя продолжалась всего несколько месяцев, мне говорили очень опытные люди, что такого другого литературного дебюта они не запомнят. Да я и сам это видел. В ноябре 61-го года я получил приглашение работать для “Современника” и отказался – зане возлюбил “Русское слово”. Там Писарева ласкали и холили, устраивали для него преферанс “по маленькой” и окружили всякой заботливостью.
Но зато “роман” шел совершенно неблагополучно. Раиса, как и следовало ожидать, влюбилась в какое-то “умственное ничтожество, но зато в человека “avec une verve animale”[21 - “С животным воодушевлением” (фр.).] – и решилась отдать ему руку и сердце. Писарев не выдержал и, спустившись с высоты своей теории, утверждавшей, что каждый имеет право располагать собою по собственному усмотрению, – хотел даже драться нa дуэли, и “наверное, застрелился бы, не люби я так свою собственную особу”, как вспоминал он впоследствии.
Finita la comedia! – и в самом деле, отношения Раисы с Писаревым напоминают собою комедию. Она просто-напросто испытывала на нем власть своей “ewig Weibliche”,[22 - “Вечной женственности” (нем.).] a может быть, просто держала про запас, решительно не обращая внимания на то, что человек положительно на стену лезет.
Писарев сам впоследствии объяснял неудачу своей любви тем, что он слишком много умствовал и занимался пропагандой теорий, когда “уместнее было засверкать глазами, схватить в объятия и поступить “по-мущински”. Но как бы то ни было, так долго лелеянная мечта его жизни была разбита, и он с еще большей охотой окунулся с головой в свою литературу и ту рассеянную жизнь, которую вел уже довольно давно, со времени сотрудничества своего в “Русском слове”.
Любопытна, между прочим, последняя попытка Писарева отстоять свою любовь и во что бы то ни стало завоевать себе любимую женщину. Он предложил Раисе, чтобы она вышла за него замуж и затем тотчас, после обряда венчания, прямо из церкви ехала с Г. за границу или куда угодно. Предлагая эту развязку, он прекрасно сознавал, что ему ответят негодованием или насмешкой, но ему самому этот исход казался самым простым и естественным: став законным мужем, он давал возможность любимой женщине вернуться к нему на законном основании, когда чаша страсти была бы выпита до дна… Разумеется, на такой компромисс никто не пошел.
Но гроза надвигалась и с другой стороны. Весною 1862 года решено было приостановить временно “Русское слово” и “Современник”. Писарев писал по этому поводу матери:
“Кажется, закрытие обоих журналов продолжится до Нового года; в этом интервале я не намерен писать в других журналах, потому что все они – дрянь; поэтому я думаю ехать в Грунец и жить там, покуда не откроется “Современник” или “Русское слово”, или что-нибудь им подобное. Je faut savoir accepter avec dignitе une dеfaite politique[23 - Нужно уметь принимать с достоинством политическое поражение (фр.).]”.