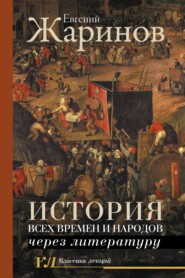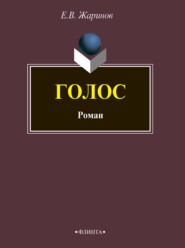По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пророчества великого магистра тамплиеров
Серия
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы посвященные, Соньер, мы сорвали покрывало Изиды. Лучше быть зубом, чем травинкой. Вот мой девиз.
Эти слова в устах маленького кюре прозвучали диссонансом всей его внешности, и Соньер не мог удержаться от улыбки. Буде заметил реакцию на свои слова, но нисколько не смутился:
– Я предлагаю свалиться в бездну. Я предлагаю отдаться тому, что давно уже влечет нас к себе. Посмотрите, посмотрите только на эту башню!
На небе к этому времени появилась огромная луна и осветила всю окрестность. В серебряном свете мрачные силуэты замка Бланшфор, казалось, приобрели еще больше таинственности.
– Именно здесь жил один из Магистров. Копните только, и вы обнаружите в этих землях не христианские святыни, а памятники вестготов и бог его знает чего еще.
– Нельзя ли, дорогой Буде, поподробнее рассказать мне об этих тамплиерах? – примирительным тоном произнес Соньер, не в силах оторвать глаз от таинственного силуэта башни, что возвышалась на соседнем холме.
– Охотно. Начало истории известно абсолютно всем. Существовал Первый крестовый поход. Балдуин стал первым королем Иерусалима. И вот, в 1118 году сюда прибывают девять человек под предводительством некоего Хуго де Паэна и формируют ядро нового ордена Нищих рыцарей Христа; орден монашеский, но с мечом и в доспехах. Им присущи три основные монашеские заповеди: нестяжательство, целомудрие и послушание, к которым добавилась защита паломников.
– Но кто такой этот Хуго де Паэн? – вмешался Соньер.
– Своевременный вопрос, мой друг. Можно сказать, что Хуго был из здешних мест.
– Неужели?
– Да, он родом из Шампани. После возвращения из Иерусалима крестоносец вступает в контакт с аббатом Сито и помогает ему в монастыре начать чтение и перевод некоторых древнееврейских текстов. Подумать только, раввины из Верхней Бургони были приглашены в Сито к белым монахам-бенедиктинцам, и кем? Самим святым Бернаром, чтобы изучать тексты, которые Хуго нашел в Палестине. Видите, как все переплетено в нашей истории. В ней нет четких границ. Впрочем, это же самое мы наблюдаем и в природе. Сидишь с удочкой, ловишь рыбку в свое удовольствие, а на самом деле в сердце своем предаешь матерь нашу, Римско-католическую церковь.
– Вы же сами сказали, что тамплиеры были монашеским орденом. Бернар и покровительствовал им. Ведь они отправились воевать Гроб Господень.
– Верно, только монахи эти вели себя довольно странно. Известно, что когда посланник дамасского эмира посетил Иерусалим, тамплиеры предоставили ему для молитв небольшую мусульманскую мечеть, переделанную в христианскую церковь. Однажды туда вошел какой-то франк. Возмущенный присутствием в святом месте мусульманина, он принялся оскорблять его. Однако тамплиеры прогнали брата по вере, проявившего подобную нетерпимость, и принесли свои извинения мусульманину. Такая лояльность по отношению к врагу в конечном итоге сослужила им плохую службу, поскольку в дальнейшем их, кроме всего прочего, обвиняли в связях с тайными сектами мусульман.
– Наверное, в этом есть своя правда. Тамплиеры не имели возможности получить основательное монастырское воспитание, – решил высказать свою догадку Соньер.
– Абсолютно верно. Я рад, что вы понимаете меня. Разум тамплиеров, воинов-монахов, не мог уловить некоторых теологических тонкостей Лоуренса Аравийского, и вскоре рыцари даже стали надевать на себя легкую шелковую одежду шейхов. Однако проследить за их деятельностью в этот период представляется довольно трудным делом, поскольку христианские историографы, такие как Гийом де Тир, не упускали ни единой возможности, чтобы очернить их. Ясно одно, тамплиеры в своих поисках истины отклонились от догм и вступили на весьма опасную почву мистицизма. Возьмем, к примеру, все ту же черную Богородицу. Великий Фулканелли решил по-особому прочитать иконы в соборах, принадлежащих ордену, и пришел к удивительному заключению: для него стала совершенно очевидной связь между кельтской Богородицей и алхимическими изысканиями. Черная Богородица символизирует собой начало, над поисками которого трудились те, кто искал философский камень…
После разговора с Буде Соньер решил сам посмотреть на знаменитую черную Богородицу, о которой так много говорил аббат. Дождавшись подходящего момента, он сел в поезд и отправился к Вдохновенному холму. Отсутствовал Соньер около месяца. По возвращении домой он сильно изменился: помрачнел и перестал даже ходить на рыбалку, зато его часто видели в лесу и в других глухих местах Ренне-ле-Шато. Крестьяне рассказывали, что их кюре мог подолгу стоять у какого-то камня, на котором еще была заметна полустершаяся надпись. Священник завел знакомства со стариками-фермерами и полюбил расспрашивать их о далеком прошлом. Соньер стал носить с собой книжку, чтобы записывать туда услышанные предания. Он по-прежнему навещал своего друга аббата. Друзья читали старые полуистлевшие манускрипты и о чем-то жарко спорили.
Но чем бы ни занимался Соньер, как далеко ни уходил от своего дома в поисках неведомого, он почти всюду мог видеть колокольню своей церкви Марии Магдалины. И в самом деле: каждая часть приходского храма, открывавшаяся наблюдательному взору, отличалась от всякой другой постройки Ренне-ле-Шато, включая и величественный замок Бланшфор. Глядя на колокольню, Соньер и Буде в былые времена, сидя с удочками на берегу в час заката, мысленно сливались со шпилем и в блаженстве улыбались старым потрескавшимся камням. Они знали, что в следующий раз их ждет чудо. И чудо неизменно свершалось, но уже во время другой рыбалки, когда клев приходился на утреннюю зорьку. Этого мига рыбаки ждали с нетерпением и заранее занимали места на берегу реки, как в партере театра, не обращая внимания даже на мокрую от утренней росы траву. Казалось, что два приятеля лишь делают вид, будто удят рыбу, а на самом деле пытаются обмануть неведомое божество своим напускным равнодушием. В такие минуты они не обращали внимания на поплавки, и караси, щуки, налимы могли спокойно закусывать их жирными червями, выделывающими уморительные фигуры в воде, напоминая своими движениями нестройные и очень нервные звуки оркестра перед тем, как дирижер взмахнет палочкой. Итак, они не ловили рыбу, а сидели и ждали. Ждали, когда солнце начнет золотить самый шпиль колокольни. И это было подобно первой робкой ноте. Она еще не предвещала ничего необычного, словно смычком тронули струну старой виолы – и больше ничего. Но червь замирал на крючке, рыба застывала в воде с открытым жадным ртом, и начиналось представление. Уже этого звука было достаточно для опытного музыканта. Он был подобен первому жесту творения, тяжелому вздоху Бога, размышляющему о том, что должно вот-вот появиться на свет. Поначалу солнце освещало лишь самую верхнюю часть колокольни, но вот древние тяжелые камни постепенно начинали вступать в солнечную зону, и казалось, что смычок Мастера уже не робко, а уверенно, со знанием дела касался струн старой виолы, и, сделавшись легче света, камни колокольни мгновенно теряли всю свою тяжесть и взлетали – и в следующий миг были уже высоко-высоко, словно голос, запевший фальцетом и неожиданно взявший целой октавой выше.
Вряд ли Соньер мог объяснить даже самому себе, почему он решил заняться реконструкцией старого храма, заложенного еще вестготами в VI веке. Скорее всего, церковь сама потребовала от священника чего-то подобного, решив приоткрыть людям Тайну, которая заставляла ее петь при каждом восходе солнца. Как бы там ни было, но работы начались.
Они начались еще в 1891 году, но лишь 3 марта 1892 года в три часа пополудни Тайна дала знать о себе. К этому времени Соньеру удалось подпереть крышу ветхого храма, что позволило сдвинуть алтарную плиту, покоившуюся на двух балках. Тут кюре и заметил, что одна из балок была слишком уж легкой. Она оказалась полой внутри. Священник через небольшое отверстие просунул туда руку и извлек четыре опечатанных деревянных цилиндра. В таких футлярах обычно хранили пергаментные свитки. Убедившись, что за ним никто не следит, Соньер спрятал находку в складках одежды и устремил стопы свои к дому. Оказавшись у себя, священник наложил на дверь тяжелый засов, закрыл ставни, затем зажег свечу и дрожащими руками взломал первую печать.
Уже с утра аббат Анри Буде чувствовал себя не в своей тарелке. В тот момент, когда Соньер начал вскрывать первую печать, Анри совершал свой обычный моцион перед обедом, и вдруг острая боль пронзила грудь. Буде почувствовал себя вздернутым на дыбе, при этом создавалось такое ощущение, будто на лицо ему набросили влажную тряпку. Аббат в бессилии прислонился к дереву.
Соньер не знал, что происходит с его другом в данный момент, и продолжал трудиться над сургучом.
Буде все-таки удалось доползти до дому. На пороге его встретила экономка и, увидев побледневшего кюре, начала суетиться. Она помогла аббату подняться на второй этаж и уложила его в постель.
– Не хотите ли вы чего-нибудь? Быть может, вам дать бульону?
– Бульон? О нет!
– Тогда, может быть, налить вам вашего лекарства?
– Нет, я боюсь лекарств. Принесите лучше подушку с хмелем и пошлите за доктором.
Экономка вернулась через минуту с подушкой, набитой хмелем, и положила ее под голову Буде. Затем она пошла за доктором.
Первые два свитка не представляли собой ничего особенного. Это оказался генеалогический список семьи Бланшфоров, который начинался с 1244 года. Соньер занялся следующим футляром.
А к старому Буде в это время пришел доктор. При виде врача аббат закашлялся, и на платке выступила кровь. Доктор покачал головой и принялся осматривать больного. Носу Буде заострился, под глазами показались тени, а лоб покрылся мельчайшим потом.
Наконец Соньер взломал еще одну печать. Этот пергамент был написан на латыни и начинался с какой-то цитаты из Нового Завета. Но вдруг правильный текст прервался, и строки стали налезать одна на другую, слова были написаны без разрядки. Эти каракули заканчивались арабскими цифрами.
После осмотра больного врач вышел вместе с экономкой в коридор.
– Он очень плох, – сказал вполголоса лекарь, кивая на дверь спальни. – Моя помощь здесь не понадобится. Лучше бегите за священником.
Экономка никак не ожидала такого заключения. Она даже вскрикнула, но тут же зажала рот руками. Старая женщина была очень предана своему кюре. Она проводила доктора до двери, а затем решила вернуться к умирающему.
Соньер вскрыл последний из найденных футляров и развернул пергамент. Он также был составлен на латыни. При этом некоторые из букв специально были выведены выше основной строки. На них-то Соньер и обратил внимание. Постепенно буквы сложились в следующую фразу: „Это сокровище принадлежит Дагоберу II и Сиону, и там оно погребено“.
„Черт побери этих лекарей, – ругалась про себя экономка. – Только и могут, что выносить смертный приговор. А человек просто устал. Отлежится и вновь завтра на ногах будет“.
– Кто там? Дайте свету побольше! Это вы, госпожа Лоране?
– Я, господин аббат. Сейчас принесу большой подсвечник.
Буде видел, как в трясущихся руках служанки начали загораться свечи.
– Поставьте здесь и идите, – приказал умирающий.
Вдохновленный успехом, Соньер вновь решил вернуться к предыдущему пергаменту. Написанная на латыни абракадабра напоминала шифр. Поначалу следовало разбить текст на слова и переписать их в соответствии с правилами орфографии. Но и эта процедура не принесла успеха. Тогда Соньер обратился к цифрам и стал подсчитывать частотность определенных букв. Числа соответствовали тем, что в определенном порядке были вынесены в самый конец. Аббат распределил выделенные буквы так, как это было указано в ключе. В результате получилось следующее: „„Пастухи“ и ни каких „Соблазнов“, чьи Пуссен и Тенирс держат ключи. Мир DCLXXXI (681), крестом и конем божьим, Я завершаю или заклинаю этого демона, хранителя полдня. Голубые яблоки“. Соньер смог наконец оторваться от работы и посмотреть на часы. Была уже глубокая ночь, и тревожить Буде в такой час не имело смысла: пускай старик спокойно поспит до утра… За окном поднялся сильный ветер, и вновь, как всегда в таких случаях, заскрипел старый дуб во дворе. Забыв даже помолиться, Соньер как убитый свалился в постель, решив отложить все до лучших времен.
Буде вздрогнул, и кровь хлынула у него из горла, заливая белье. В первый момент он испугался, но тотчас же почувствовал чрезвычайное облегчение: „Вот хорошо…“ Он успел подумать с любопытством: „А как выглядит моя смерть. Смерть священника. Ведь у каждого она разная?“ – и увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату, в монашеском головном уборе, и сразу размашисто перекрестила Буде. Он с величайшим любопытством хотел ее рассмотреть получше, но ничего уже не видел более, только мелькнула напоследок ослепительно-яркая полоса реки, словно в жаркий летний полдень, да затрещали кузнечики в траве, а затем все стало светлым-светлым.
Разбудил Беранжера Соньера оглушительный грохот. Но прежде чем воспринять этот грохот как простой стук в дверь, производимый слабой женской рукой, Соньеру следовало совершить немалое усилие над собой и вырваться из объятий утреннего кошмара, как вырывается на поверхность воды пловец, решившийся нырнуть как можно глубже за причудливой раковиной, показавшейся на самом дне человеческого „я“. Привиделось священнику, будто старый Буде лезет по высокой лестнице на крышу собственного дома, а лестница тем временем все вытягивается и вытягивается, становится все выше и выше, как лестница Иакова. И вот плеч старого друга уже коснулось легкое облако, и луч солнца позолотил его голову. Затем взор Соньера вновь спустился к земле, и он увидел у самого основания лестницы фигуру рыцаря с длинной бородой и с такими же длинными прядями седых волос. На рыцаре поверх кольчуги была грубая холщовая накидка белого цвета с вышитым на груди и спине красным крестом. Неожиданно рыцарь повернулся к Соньеру, освободил одну руку и сделал соответствующий жест, приглашавший священника последовать за его другом на небо. Беранжер почувствовал, как ужас сковал все его тело. В одно мгновение небо помрачнело, синие молнии заходили среди туч, подул ветер, который перешел в самый настоящий шквал, сверху раздался крик падающего Буде, а лицо Магистра исказилось гневом, и с каждым новым раскатом грома оно становилось все ужаснее и ужаснее. Гром тем временем нарастал… И тутСоньер почувствовал облегчение. Он вдруг понял, что хозяин сцены не Магистр, а он, Беранжер Соньер, и что в любую минуту в его власти прекратить всю эту фантасмагорию. Дело в том, что в грозных раскатах грома Беранжер, обладая тонким музыкальным слухом, уловил легкую фальшь: в потустороннем грохоте ударных в оркестре угадывался звук неожиданно захлопывающейся от резкого дуновения ветра двери. В интонациях мертвого звука вдруг послышались оттенки звука живого и вполне реального. Соньер вздохнул с облегчением и наконец-то смог, хотя и с трудом, разлепить тяжелые веки, будто кем-то смазанные накануне медом. Раскрыв широко глаза, он понял, что громовые раскаты – это настойчивый, хотя и не очень громкий, стук в дверь. Накинув халат, священник спустился вниз. На пороге его встретила какая-то женщина. Мартовский день еще только появлялся на свет сквозь густую пелену холодного тумана. Соньер никак не мог понять, в чем дело и почему эта женщина, словно посланец с того света, вся, будто саваном, окутанная пеленой тумана, сейчас стояла на пороге его дома. С трудом он начал вслушиваться в то, что она говорит, и сквозь всхлипывания наконец разобрал смысл: ночью его друг аббат Анри Буде отдал душу Богу.
Халат от неожиданности распахнулся, и женщина увидела несвежее белье молодого служителя церкви. Вновь потеряв всякое ощущение реальности, Соньер принялся сновать из угла в угол, бормоча при этом бессвязные слова, а бедная женщина, выполнившая прискорбную миссию вестника из трагедии эпохи классицизма, от смущения, горя и недоумения буквально застыла на пороге дома, готовая вот-вот, как супруга Лота, превратиться в соляной столб.
Итак, священник ходил из угла в угол, а экономка покойного стояла и смотрела на этот живой маятник, боясь произнести хоть слово.
С этого момента призрак аббата Буде стал частым гостем в доме Беранжера Соньера.
Прошло еще несколько месяцев, и Беранжер Соньер, чувствуя, что сходит с ума, отправился на исповедь к епископу города Каркасона, захватив с собой найденные в церкви Марии Магдалины пергаменты.
II. Въезд в париж
Тайна, на которую случайно наткнулся Беранжер Соньер и которая чуть не стоила ему рассудка, своими корнями уходила в далекое прошлое. Чтобы хоть как-то приблизиться к ней, мы должны из века XIX, где застигли нас все вышеупомянутые события, перенестись в век XIV, дабы понять, что удалось раскопать бедному каркасонскому священнику, чей дом стал посещать призрак внезапно скончавшегося друга.
Когда мир был на шесть веков моложе, то обитатели Земли образца XIV века вполне могли сойти за инопланетян. Жизнь человека в ту эпоху была настолько призрачна и мимолетна, что даже не заслуживала серьезного внимания, и поэтому городское кладбище было и местом свиданий, и местом развлечений, и местом деловых встреч. Никого при этом не смущал смрадный запах, исходящий из открытых братских могил. Проститутки искали здесь богатых клиентов и находили их, влюбленные целовались и объяснялись в любви. Могилы не зарывали потому, что невыгодно было. Трупы привозили сюда почти без перерыва. Места не хватало, и поэтому приходилось отрывать уже старые захоронения, сваливая груды костей в кучу. И подобное зрелище никого не смущало. Memento mori – помни о смерти! Вот девиз эпохи. Находились святые, которые добровольно замуровывали себя в маленьких кельях на кладбище, оставляя лишь небольшое отверстие для воздуха и жалких подачек, дабы подольше продлить собственные страдания. Сам король назначил что-то вроде жалованья для двух отшельниц, поселившихся таким образом на кладбище Невинно убиенных младенцев в Париже.
Зато человек в ту эпоху не знал, что такое одиночество. Начиная с рождения и до самой смерти он был включен в жизнь общины и принадлежал либо к цеху ремесленников, либо к купеческой гильдии, либо к рыцарскому ордену, либо к монашескому братству. Никогда человек не чувствовал себя одиноким, и не было у него возможности хоть чуть-чуть побыть одному. Даже в спальне нельзя было укрыться от любопытных глаз. Богатые и благородные супруги предпочитали проводить ночи в компании со своими слугами, детьми и собаками, которых любили не меньше, чем детей. Вечерний лай или вой собак средневековый человек истолковывал с невероятным искусством, пытаясь предугадать в этих звуках свою судьбу. Как мы видели, даже на кладбище мертвых активно включали в жизнь живых. И смерть не давала уединения. А если покойник был грешен, то его вполне могли достать из могилы и наказать как живого. Так, голова мэтра Одара де Бюсси по особому повелению Людовика XI была извлечена из могилы и выставлена на рыночной площади Эдена, покрытая алым капюшоном, отороченным мехом. Мир загробный и мир реальный существовали бок о бок и не имели границ. Когда Франциск Ассизский появился в папском дворце, дабы передать устав своего монашеского ордена, то понтифик к этому часу уже успел скончаться. Вручать бумаги было некому. Но святой приказал вложить пергамент в руку покойного, произнеся при этом: “Разве, скончавшись, он разучился читать?” Можно сказать, что уединение в описываемую эпоху было знакомо лишь отшельникам. Но отшельниками становились немногие, хотя среди них могли быть не только бедные монахи, но и кающиеся короли, и рыцари, и даже купцы.
Эти слова в устах маленького кюре прозвучали диссонансом всей его внешности, и Соньер не мог удержаться от улыбки. Буде заметил реакцию на свои слова, но нисколько не смутился:
– Я предлагаю свалиться в бездну. Я предлагаю отдаться тому, что давно уже влечет нас к себе. Посмотрите, посмотрите только на эту башню!
На небе к этому времени появилась огромная луна и осветила всю окрестность. В серебряном свете мрачные силуэты замка Бланшфор, казалось, приобрели еще больше таинственности.
– Именно здесь жил один из Магистров. Копните только, и вы обнаружите в этих землях не христианские святыни, а памятники вестготов и бог его знает чего еще.
– Нельзя ли, дорогой Буде, поподробнее рассказать мне об этих тамплиерах? – примирительным тоном произнес Соньер, не в силах оторвать глаз от таинственного силуэта башни, что возвышалась на соседнем холме.
– Охотно. Начало истории известно абсолютно всем. Существовал Первый крестовый поход. Балдуин стал первым королем Иерусалима. И вот, в 1118 году сюда прибывают девять человек под предводительством некоего Хуго де Паэна и формируют ядро нового ордена Нищих рыцарей Христа; орден монашеский, но с мечом и в доспехах. Им присущи три основные монашеские заповеди: нестяжательство, целомудрие и послушание, к которым добавилась защита паломников.
– Но кто такой этот Хуго де Паэн? – вмешался Соньер.
– Своевременный вопрос, мой друг. Можно сказать, что Хуго был из здешних мест.
– Неужели?
– Да, он родом из Шампани. После возвращения из Иерусалима крестоносец вступает в контакт с аббатом Сито и помогает ему в монастыре начать чтение и перевод некоторых древнееврейских текстов. Подумать только, раввины из Верхней Бургони были приглашены в Сито к белым монахам-бенедиктинцам, и кем? Самим святым Бернаром, чтобы изучать тексты, которые Хуго нашел в Палестине. Видите, как все переплетено в нашей истории. В ней нет четких границ. Впрочем, это же самое мы наблюдаем и в природе. Сидишь с удочкой, ловишь рыбку в свое удовольствие, а на самом деле в сердце своем предаешь матерь нашу, Римско-католическую церковь.
– Вы же сами сказали, что тамплиеры были монашеским орденом. Бернар и покровительствовал им. Ведь они отправились воевать Гроб Господень.
– Верно, только монахи эти вели себя довольно странно. Известно, что когда посланник дамасского эмира посетил Иерусалим, тамплиеры предоставили ему для молитв небольшую мусульманскую мечеть, переделанную в христианскую церковь. Однажды туда вошел какой-то франк. Возмущенный присутствием в святом месте мусульманина, он принялся оскорблять его. Однако тамплиеры прогнали брата по вере, проявившего подобную нетерпимость, и принесли свои извинения мусульманину. Такая лояльность по отношению к врагу в конечном итоге сослужила им плохую службу, поскольку в дальнейшем их, кроме всего прочего, обвиняли в связях с тайными сектами мусульман.
– Наверное, в этом есть своя правда. Тамплиеры не имели возможности получить основательное монастырское воспитание, – решил высказать свою догадку Соньер.
– Абсолютно верно. Я рад, что вы понимаете меня. Разум тамплиеров, воинов-монахов, не мог уловить некоторых теологических тонкостей Лоуренса Аравийского, и вскоре рыцари даже стали надевать на себя легкую шелковую одежду шейхов. Однако проследить за их деятельностью в этот период представляется довольно трудным делом, поскольку христианские историографы, такие как Гийом де Тир, не упускали ни единой возможности, чтобы очернить их. Ясно одно, тамплиеры в своих поисках истины отклонились от догм и вступили на весьма опасную почву мистицизма. Возьмем, к примеру, все ту же черную Богородицу. Великий Фулканелли решил по-особому прочитать иконы в соборах, принадлежащих ордену, и пришел к удивительному заключению: для него стала совершенно очевидной связь между кельтской Богородицей и алхимическими изысканиями. Черная Богородица символизирует собой начало, над поисками которого трудились те, кто искал философский камень…
После разговора с Буде Соньер решил сам посмотреть на знаменитую черную Богородицу, о которой так много говорил аббат. Дождавшись подходящего момента, он сел в поезд и отправился к Вдохновенному холму. Отсутствовал Соньер около месяца. По возвращении домой он сильно изменился: помрачнел и перестал даже ходить на рыбалку, зато его часто видели в лесу и в других глухих местах Ренне-ле-Шато. Крестьяне рассказывали, что их кюре мог подолгу стоять у какого-то камня, на котором еще была заметна полустершаяся надпись. Священник завел знакомства со стариками-фермерами и полюбил расспрашивать их о далеком прошлом. Соньер стал носить с собой книжку, чтобы записывать туда услышанные предания. Он по-прежнему навещал своего друга аббата. Друзья читали старые полуистлевшие манускрипты и о чем-то жарко спорили.
Но чем бы ни занимался Соньер, как далеко ни уходил от своего дома в поисках неведомого, он почти всюду мог видеть колокольню своей церкви Марии Магдалины. И в самом деле: каждая часть приходского храма, открывавшаяся наблюдательному взору, отличалась от всякой другой постройки Ренне-ле-Шато, включая и величественный замок Бланшфор. Глядя на колокольню, Соньер и Буде в былые времена, сидя с удочками на берегу в час заката, мысленно сливались со шпилем и в блаженстве улыбались старым потрескавшимся камням. Они знали, что в следующий раз их ждет чудо. И чудо неизменно свершалось, но уже во время другой рыбалки, когда клев приходился на утреннюю зорьку. Этого мига рыбаки ждали с нетерпением и заранее занимали места на берегу реки, как в партере театра, не обращая внимания даже на мокрую от утренней росы траву. Казалось, что два приятеля лишь делают вид, будто удят рыбу, а на самом деле пытаются обмануть неведомое божество своим напускным равнодушием. В такие минуты они не обращали внимания на поплавки, и караси, щуки, налимы могли спокойно закусывать их жирными червями, выделывающими уморительные фигуры в воде, напоминая своими движениями нестройные и очень нервные звуки оркестра перед тем, как дирижер взмахнет палочкой. Итак, они не ловили рыбу, а сидели и ждали. Ждали, когда солнце начнет золотить самый шпиль колокольни. И это было подобно первой робкой ноте. Она еще не предвещала ничего необычного, словно смычком тронули струну старой виолы – и больше ничего. Но червь замирал на крючке, рыба застывала в воде с открытым жадным ртом, и начиналось представление. Уже этого звука было достаточно для опытного музыканта. Он был подобен первому жесту творения, тяжелому вздоху Бога, размышляющему о том, что должно вот-вот появиться на свет. Поначалу солнце освещало лишь самую верхнюю часть колокольни, но вот древние тяжелые камни постепенно начинали вступать в солнечную зону, и казалось, что смычок Мастера уже не робко, а уверенно, со знанием дела касался струн старой виолы, и, сделавшись легче света, камни колокольни мгновенно теряли всю свою тяжесть и взлетали – и в следующий миг были уже высоко-высоко, словно голос, запевший фальцетом и неожиданно взявший целой октавой выше.
Вряд ли Соньер мог объяснить даже самому себе, почему он решил заняться реконструкцией старого храма, заложенного еще вестготами в VI веке. Скорее всего, церковь сама потребовала от священника чего-то подобного, решив приоткрыть людям Тайну, которая заставляла ее петь при каждом восходе солнца. Как бы там ни было, но работы начались.
Они начались еще в 1891 году, но лишь 3 марта 1892 года в три часа пополудни Тайна дала знать о себе. К этому времени Соньеру удалось подпереть крышу ветхого храма, что позволило сдвинуть алтарную плиту, покоившуюся на двух балках. Тут кюре и заметил, что одна из балок была слишком уж легкой. Она оказалась полой внутри. Священник через небольшое отверстие просунул туда руку и извлек четыре опечатанных деревянных цилиндра. В таких футлярах обычно хранили пергаментные свитки. Убедившись, что за ним никто не следит, Соньер спрятал находку в складках одежды и устремил стопы свои к дому. Оказавшись у себя, священник наложил на дверь тяжелый засов, закрыл ставни, затем зажег свечу и дрожащими руками взломал первую печать.
Уже с утра аббат Анри Буде чувствовал себя не в своей тарелке. В тот момент, когда Соньер начал вскрывать первую печать, Анри совершал свой обычный моцион перед обедом, и вдруг острая боль пронзила грудь. Буде почувствовал себя вздернутым на дыбе, при этом создавалось такое ощущение, будто на лицо ему набросили влажную тряпку. Аббат в бессилии прислонился к дереву.
Соньер не знал, что происходит с его другом в данный момент, и продолжал трудиться над сургучом.
Буде все-таки удалось доползти до дому. На пороге его встретила экономка и, увидев побледневшего кюре, начала суетиться. Она помогла аббату подняться на второй этаж и уложила его в постель.
– Не хотите ли вы чего-нибудь? Быть может, вам дать бульону?
– Бульон? О нет!
– Тогда, может быть, налить вам вашего лекарства?
– Нет, я боюсь лекарств. Принесите лучше подушку с хмелем и пошлите за доктором.
Экономка вернулась через минуту с подушкой, набитой хмелем, и положила ее под голову Буде. Затем она пошла за доктором.
Первые два свитка не представляли собой ничего особенного. Это оказался генеалогический список семьи Бланшфоров, который начинался с 1244 года. Соньер занялся следующим футляром.
А к старому Буде в это время пришел доктор. При виде врача аббат закашлялся, и на платке выступила кровь. Доктор покачал головой и принялся осматривать больного. Носу Буде заострился, под глазами показались тени, а лоб покрылся мельчайшим потом.
Наконец Соньер взломал еще одну печать. Этот пергамент был написан на латыни и начинался с какой-то цитаты из Нового Завета. Но вдруг правильный текст прервался, и строки стали налезать одна на другую, слова были написаны без разрядки. Эти каракули заканчивались арабскими цифрами.
После осмотра больного врач вышел вместе с экономкой в коридор.
– Он очень плох, – сказал вполголоса лекарь, кивая на дверь спальни. – Моя помощь здесь не понадобится. Лучше бегите за священником.
Экономка никак не ожидала такого заключения. Она даже вскрикнула, но тут же зажала рот руками. Старая женщина была очень предана своему кюре. Она проводила доктора до двери, а затем решила вернуться к умирающему.
Соньер вскрыл последний из найденных футляров и развернул пергамент. Он также был составлен на латыни. При этом некоторые из букв специально были выведены выше основной строки. На них-то Соньер и обратил внимание. Постепенно буквы сложились в следующую фразу: „Это сокровище принадлежит Дагоберу II и Сиону, и там оно погребено“.
„Черт побери этих лекарей, – ругалась про себя экономка. – Только и могут, что выносить смертный приговор. А человек просто устал. Отлежится и вновь завтра на ногах будет“.
– Кто там? Дайте свету побольше! Это вы, госпожа Лоране?
– Я, господин аббат. Сейчас принесу большой подсвечник.
Буде видел, как в трясущихся руках служанки начали загораться свечи.
– Поставьте здесь и идите, – приказал умирающий.
Вдохновленный успехом, Соньер вновь решил вернуться к предыдущему пергаменту. Написанная на латыни абракадабра напоминала шифр. Поначалу следовало разбить текст на слова и переписать их в соответствии с правилами орфографии. Но и эта процедура не принесла успеха. Тогда Соньер обратился к цифрам и стал подсчитывать частотность определенных букв. Числа соответствовали тем, что в определенном порядке были вынесены в самый конец. Аббат распределил выделенные буквы так, как это было указано в ключе. В результате получилось следующее: „„Пастухи“ и ни каких „Соблазнов“, чьи Пуссен и Тенирс держат ключи. Мир DCLXXXI (681), крестом и конем божьим, Я завершаю или заклинаю этого демона, хранителя полдня. Голубые яблоки“. Соньер смог наконец оторваться от работы и посмотреть на часы. Была уже глубокая ночь, и тревожить Буде в такой час не имело смысла: пускай старик спокойно поспит до утра… За окном поднялся сильный ветер, и вновь, как всегда в таких случаях, заскрипел старый дуб во дворе. Забыв даже помолиться, Соньер как убитый свалился в постель, решив отложить все до лучших времен.
Буде вздрогнул, и кровь хлынула у него из горла, заливая белье. В первый момент он испугался, но тотчас же почувствовал чрезвычайное облегчение: „Вот хорошо…“ Он успел подумать с любопытством: „А как выглядит моя смерть. Смерть священника. Ведь у каждого она разная?“ – и увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату, в монашеском головном уборе, и сразу размашисто перекрестила Буде. Он с величайшим любопытством хотел ее рассмотреть получше, но ничего уже не видел более, только мелькнула напоследок ослепительно-яркая полоса реки, словно в жаркий летний полдень, да затрещали кузнечики в траве, а затем все стало светлым-светлым.
Разбудил Беранжера Соньера оглушительный грохот. Но прежде чем воспринять этот грохот как простой стук в дверь, производимый слабой женской рукой, Соньеру следовало совершить немалое усилие над собой и вырваться из объятий утреннего кошмара, как вырывается на поверхность воды пловец, решившийся нырнуть как можно глубже за причудливой раковиной, показавшейся на самом дне человеческого „я“. Привиделось священнику, будто старый Буде лезет по высокой лестнице на крышу собственного дома, а лестница тем временем все вытягивается и вытягивается, становится все выше и выше, как лестница Иакова. И вот плеч старого друга уже коснулось легкое облако, и луч солнца позолотил его голову. Затем взор Соньера вновь спустился к земле, и он увидел у самого основания лестницы фигуру рыцаря с длинной бородой и с такими же длинными прядями седых волос. На рыцаре поверх кольчуги была грубая холщовая накидка белого цвета с вышитым на груди и спине красным крестом. Неожиданно рыцарь повернулся к Соньеру, освободил одну руку и сделал соответствующий жест, приглашавший священника последовать за его другом на небо. Беранжер почувствовал, как ужас сковал все его тело. В одно мгновение небо помрачнело, синие молнии заходили среди туч, подул ветер, который перешел в самый настоящий шквал, сверху раздался крик падающего Буде, а лицо Магистра исказилось гневом, и с каждым новым раскатом грома оно становилось все ужаснее и ужаснее. Гром тем временем нарастал… И тутСоньер почувствовал облегчение. Он вдруг понял, что хозяин сцены не Магистр, а он, Беранжер Соньер, и что в любую минуту в его власти прекратить всю эту фантасмагорию. Дело в том, что в грозных раскатах грома Беранжер, обладая тонким музыкальным слухом, уловил легкую фальшь: в потустороннем грохоте ударных в оркестре угадывался звук неожиданно захлопывающейся от резкого дуновения ветра двери. В интонациях мертвого звука вдруг послышались оттенки звука живого и вполне реального. Соньер вздохнул с облегчением и наконец-то смог, хотя и с трудом, разлепить тяжелые веки, будто кем-то смазанные накануне медом. Раскрыв широко глаза, он понял, что громовые раскаты – это настойчивый, хотя и не очень громкий, стук в дверь. Накинув халат, священник спустился вниз. На пороге его встретила какая-то женщина. Мартовский день еще только появлялся на свет сквозь густую пелену холодного тумана. Соньер никак не мог понять, в чем дело и почему эта женщина, словно посланец с того света, вся, будто саваном, окутанная пеленой тумана, сейчас стояла на пороге его дома. С трудом он начал вслушиваться в то, что она говорит, и сквозь всхлипывания наконец разобрал смысл: ночью его друг аббат Анри Буде отдал душу Богу.
Халат от неожиданности распахнулся, и женщина увидела несвежее белье молодого служителя церкви. Вновь потеряв всякое ощущение реальности, Соньер принялся сновать из угла в угол, бормоча при этом бессвязные слова, а бедная женщина, выполнившая прискорбную миссию вестника из трагедии эпохи классицизма, от смущения, горя и недоумения буквально застыла на пороге дома, готовая вот-вот, как супруга Лота, превратиться в соляной столб.
Итак, священник ходил из угла в угол, а экономка покойного стояла и смотрела на этот живой маятник, боясь произнести хоть слово.
С этого момента призрак аббата Буде стал частым гостем в доме Беранжера Соньера.
Прошло еще несколько месяцев, и Беранжер Соньер, чувствуя, что сходит с ума, отправился на исповедь к епископу города Каркасона, захватив с собой найденные в церкви Марии Магдалины пергаменты.
II. Въезд в париж
Тайна, на которую случайно наткнулся Беранжер Соньер и которая чуть не стоила ему рассудка, своими корнями уходила в далекое прошлое. Чтобы хоть как-то приблизиться к ней, мы должны из века XIX, где застигли нас все вышеупомянутые события, перенестись в век XIV, дабы понять, что удалось раскопать бедному каркасонскому священнику, чей дом стал посещать призрак внезапно скончавшегося друга.
Когда мир был на шесть веков моложе, то обитатели Земли образца XIV века вполне могли сойти за инопланетян. Жизнь человека в ту эпоху была настолько призрачна и мимолетна, что даже не заслуживала серьезного внимания, и поэтому городское кладбище было и местом свиданий, и местом развлечений, и местом деловых встреч. Никого при этом не смущал смрадный запах, исходящий из открытых братских могил. Проститутки искали здесь богатых клиентов и находили их, влюбленные целовались и объяснялись в любви. Могилы не зарывали потому, что невыгодно было. Трупы привозили сюда почти без перерыва. Места не хватало, и поэтому приходилось отрывать уже старые захоронения, сваливая груды костей в кучу. И подобное зрелище никого не смущало. Memento mori – помни о смерти! Вот девиз эпохи. Находились святые, которые добровольно замуровывали себя в маленьких кельях на кладбище, оставляя лишь небольшое отверстие для воздуха и жалких подачек, дабы подольше продлить собственные страдания. Сам король назначил что-то вроде жалованья для двух отшельниц, поселившихся таким образом на кладбище Невинно убиенных младенцев в Париже.
Зато человек в ту эпоху не знал, что такое одиночество. Начиная с рождения и до самой смерти он был включен в жизнь общины и принадлежал либо к цеху ремесленников, либо к купеческой гильдии, либо к рыцарскому ордену, либо к монашескому братству. Никогда человек не чувствовал себя одиноким, и не было у него возможности хоть чуть-чуть побыть одному. Даже в спальне нельзя было укрыться от любопытных глаз. Богатые и благородные супруги предпочитали проводить ночи в компании со своими слугами, детьми и собаками, которых любили не меньше, чем детей. Вечерний лай или вой собак средневековый человек истолковывал с невероятным искусством, пытаясь предугадать в этих звуках свою судьбу. Как мы видели, даже на кладбище мертвых активно включали в жизнь живых. И смерть не давала уединения. А если покойник был грешен, то его вполне могли достать из могилы и наказать как живого. Так, голова мэтра Одара де Бюсси по особому повелению Людовика XI была извлечена из могилы и выставлена на рыночной площади Эдена, покрытая алым капюшоном, отороченным мехом. Мир загробный и мир реальный существовали бок о бок и не имели границ. Когда Франциск Ассизский появился в папском дворце, дабы передать устав своего монашеского ордена, то понтифик к этому часу уже успел скончаться. Вручать бумаги было некому. Но святой приказал вложить пергамент в руку покойного, произнеся при этом: “Разве, скончавшись, он разучился читать?” Можно сказать, что уединение в описываемую эпоху было знакомо лишь отшельникам. Но отшельниками становились немногие, хотя среди них могли быть не только бедные монахи, но и кающиеся короли, и рыцари, и даже купцы.