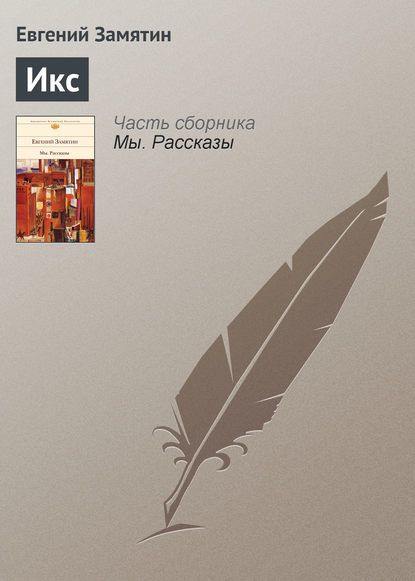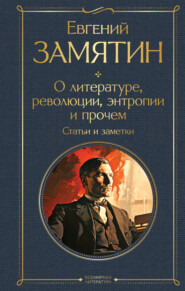По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Икс
Автор
Год написания книги
1919
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неудивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться – схватил штаны… Владычица! – не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника – все сиденье красное и все полы красные… Лавочка-то вчера в саду была выкрашена – то-то оно и пахло!
Дьякон кинулся к шкафу – надеть другие брюки, которые не представляли собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.
– Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! – кричала дьяконица. – Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!
Так и пошел – как некогда пророк Елисей – со стадом гогочущих мальчишек сзади.
Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции, и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.
На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе – сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, на Марфе.
– Ах ты бедненький! Ну, поди, поди ко мне… Да что это у тебя глаза такие чудные?
– Что – глаза! Тут мозги наперекосы пойдут – от всего этого…
Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты – теперь из Маркса – и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа – неужели этого мало?
Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена – две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год – 1919-й). Действие развертывается одновременно на обеих площадках: справа – Стерлигов и телеграфист Алешка, слева – марфист-дьякон и Марфа.
Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это видно) произносит наконец какое-то слово – у Стерлигова цигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к Алешкиной голове – как будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но, несомненно, Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь – голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.
На левой площадке – явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупо, без жестов – и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там зашита кошка: это – свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром калитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори – кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает губы – так же, как когда говорят ребенку «агу-агунюшки». Это на дьякона уже не действует – мозги у него явно пошли наперекосы, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, – видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно, – погоди!» – и уходит с твердым решением (кулак в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.
Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится – дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить, – как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.
Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом – бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком – барышня, из породы секретарш (особый вид болонок).
У Стерлигова сквозь меха на лице – или от волнения – голос глухой:
– Папалаги у себя?
Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:
– Пожалуйте.
И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самим товарищем Папалаги. На столе возле него – тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ее ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги – громадные, черные, острые, греческие – или еще какие усы…
– Ну, гражданин… как вас? ага! – рассказывайте. Ну?
Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер явно ночевал на сеннике в сарае.
– Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: острые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше… – Папалаги нажал звонок, в дверях – желатинное лицо. – Вот что – сегодня вечером на Блинной улице… Впрочем – потом. Пока идите. Вы тоже можете идти (это уже Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).
Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.
– Черт возьми! – понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдали прозодежду… И дернуло же их там, в Москве, придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтобы реквизировать и раздать им?
Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу.
– Гм… Разве только у Перелыгина еще кой-что…
– Ну, у Перелыгина так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете… Этот сукин сын Перепечко…
Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотен на улице Розы Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.
Но вместо антракта – представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шепотом заволновались:
– Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!
Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок – милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.
Дождь сразу перестал – как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати до пятидесяти кричал на сцену:
– Эй, товарищи! Чего это у вас там?
Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполоборота бросил небрежно – как, закурив, бросают спичку:
– Прозодежда.
И от сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:
– Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам – шиш? Граждане, трудящие, держи их! Граждане!
Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовый враг, – пожалуй, даже без «как будто»: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.
Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды – волнение. Всем от восемнадцати до пятидесяти по добавочному купону Б выдали спички – один коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти зажужжал еще пуще – как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.
Раскаявшийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван – все прочные «д» дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных «р»: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку – все эти «р» закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.
Тотчас же руки, ноги, пальцы – где-то за сто верст и в то же время вот тут, рядом: как на карте – кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некоей спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый, выбритый дьяконов нос – там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться – надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили – конец! Перекреститься бы – но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене – меховой, похожий на Стерлигова Маркс…
От Стерлигова – как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в уголку – соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели Интернационал – и невозможно, чтоб это все было вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что, ей-богу же, – никакого бога нет, а есть… а есть… Что, ну – что есть, что?
Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.
В огромной зале – за сто верст, на дне – мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушонка за роялью играла миньон, в мешочных рубахах милиционеры пятились миньоном назад, натыкаясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло санитарным вагоном.
Дьякон крикнул:
– Товарищ Стерлигов здесь?
Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с цигаркой:
– Мне товарищу Стерлигову объяснить, что бога… Мне – по срочному делу: нельзя ли сейчас? – узнайте.
– Ладно… – и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.
Короткая, в три восьмых, пауза, заполненная смесью колокола с Интернационалом (окно открыто). Когда три восьмых прошло, дьякон издали – за сто верст – услышал сквозь дым: