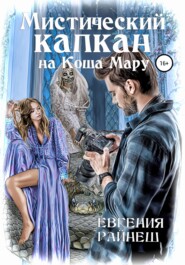По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мама что-то ответила, совсем тихо, так, что слов не разобрать. Глуховатый голос чётко произнёс:
– Три дня назад. Годовщина была три дня назад, и ты никому не сказала? Не устроила поминальный обед, и не слезинки не проронила?
Три дня назад рыжий Эрик разбил Киту губу. Причём Кит не помнил тот момент, как именно это случилось.
Мама опять что-то неразборчиво произнесла.
– Ты понимаешь хоть, что делаешь с Никитой? Он – твой ребёнок, и он живой. Ему сейчас столько лет, сколько Даниле, когда…. О, Бог ты мой, Ольга! Ты не понимаешь, что это другая жизнь? Своим безумием ты навлечёшь беду. На всю свою семью.
Вдруг мамин голос резко налился какой-то силой:
– Я не знаю никакого Никиты. У меня один сын, Данила.
– Ты дура! – собеседница явно вышла из себя. – Сумасшедшая дура. Нет, хуже. Ты преступница. Убиваешь ребёнка, который даже не догадывается о том, что с ним делают.
– Глупости. – Мама вдруг засмеялась неприятно и страшно. Словно огромный давным-давно заржавевший механизм вдруг пришёл в действие, преодолевая запустение и тлен. Скрипя и подвывая при каждом повороте. Смех, казалось, в ней окостенел, застыл, покрылся ржавчиной.
– Ты просто давно его не видела. Он сильно вырос. Ему уже шестнадцать. А все такой же – милый хулиган. Меня часто вызывают в школу за драки и плохие оценки, но он такой обаятельный, что ему все прощается. Знаешь, мне кажется, ему очень нравится соседская девочка. Её зовут Алла.
– Ольга, Ольга, – во втором голосе прозвучало отчаяние на грани возможного. – Опомнись…
Раздались торопливые шаги, и в коридор, где Никита безмолвно подпирал затылком доисторический, но мягкий пеноплен, пытаясь понять, о чём вообще говорит мама, выскочила сухонькая старушка. Она вскрикнула от неожиданности, когда увидела его, и схватилась руками за голову. Волосы у неё были изумительно красивые, абсолютно белоснежные, густые и немного волнистые. Никита никогда ещё не видел столь красивой седины.
–Данила?! – в ужасе выкрикнула она, – или…. Никита?
Кит сделал шаг к ней, потому что побоялся, что она вот-вот упадёт.
– Прости, Никита, – уже совсем мягко сказала старушка. – Мы не знакомы с тобой. Я…
Что-то внутри мальчика рванулось навстречу незнакомке, и он, совершенно не ожидая от себя, произнёс:
– Баба Клава!
Затем он почему-то залился не своим – счастливым, и даже каким-то по-детски озорным смехом, и продекламировал:
– «Едем-едем на лошадке по Дороге гладкой, в гости нас звала принцесса кушать пудинг сладкий»?
Одна часть его в панике сползала в полуобморочном состоянии по стене в прихожей, другая при полном счастье рванулась навстречу незнакомой женщине, приговаривая какой-то дурацкий стишок.
– Боже мой! – она отшатнулась от него. – Боже мой! Что ты наделала, Ольга…
Хотя мама все равно её не слышала, продолжая жить какой-то своей жизнью, кухонной и отдельной от всех.
Бабушка оказалась довольно шустрой, а может, от ужаса, который выступил катализатором всех её внутренних сил, но она проскочила мимо Никиты и рванула вниз по лестнице с такой скоростью, что он догнал её только на улице.
– Подождите, – попытался схватить её за острый локоть, как можно мягче, но, наверное, все равно сделал больно, потому что она, остановившись, повернула перекошенное гримасой лицо.
– Прости меня, мальчик, но не могу, не могу, – баба Клава дёрнулась, стараясь вырваться, она не смотрела в глаза, отворачивала лицо, словно Кит казался ей настолько безобразным, что даже один взгляд мог испортить настроение на целый день.
– Я просто хочу поговорить с вами. С мамой … Вы… Только что…. Что это было? – Кажется, он почти кричал, потому что прохожие стали оглядываться. Сгущалась атмосфера подозрительного напряжения.
Она набралась мужества и посмотрела ему прямо в лицо. Цвет её глаз – серый, размытый, туманный взгляд катил волну щемящего узнавания. Сквозь эту умную и настороженную пелену просачивались видениями фрагменты жизни, которую Никита не знал. Одновременно и детальные, какими бывают настоящие воспоминания, и неясные, как кадры из когда-то просмотренного фильма.
Огромный домашний цветок, который она пересаживает из одного горшка в другой, что-то ласково приговаривает и отстраняет мальчика тихонько вымазанными в земле руками. Он вертится, с восторгом непослушания хватается за толстый ствол цветка, дёргает его, горшок летит на пол, в лицо сыпется мелкой дробью мокрая земля, в тот же момент – резкая боль в глазах, и крик. Резь усиливается, не может открыть глаз, текут слезы. Это так странно – слезы, не переставая, текут только из одного глаза. Человек в белом халате выворачивает Киту глазное яблоко, у него это получается очень просто, а мальчик замирает от этой странной манипуляции. Врач обращается к бабе Клаве, которая оказывается с нами в этом кабинете: «Покапайте капли, слизистая натёрта, ещё некоторое время будет болеть».
Она прижимает маленького Никиту к себе, пахнет привычно и успокаивающе сдобой и корицей. Баба Клава такая мягкая, покачивает его на коленях: «Едем, едем, на лошадке по дорожке гладкой» …
– Я помню, – Кит говорит уже совсем тихо, и отпускает её локоть. – Цветок помню, мне попала земля в глаз. И булочки с корицей. Я помню.
– Ты не можешь помнить, – с какой-то неземной тоской в голосе говорит она ему. – Не можешь. Мы никогда не виделись с тобой, Никита.
Баба Клава плачет совершенно беззвучно, на сухую, только глазами без слез, но Кит понимает, что она плачет.
– Твои родители уехали, когда ты ещё не родился. Сегодня я виделась с твоей мамой впервые за семнадцать лет. И мне пора.
В её размытом взгляде было столько же любви, сколько и безнадёжной тоски.
– Вы кто? – все так же тихо спросил Никита. Хотя уже не держал, она не делала попыток убежать.
– Твоя бабушка, – сказала просто.
– Но мне говорили, что у нас не осталось никого из родственников.
– Твоя мама, да. Она сказала. Когда-то случилась трагедия. Мы жили в одном городе. Ольга просто не хотела вспоминать об этом. Поэтому они переехали сюда. И оборвали все связи с прошлым.
– Трагедия? Какая? – он ничего не знал. Хотя, нет. Наверное, знал. Чувствовал. Может, с самого младенчества чувствовал, что что-то в их семье идёт не так. Неправильно.
– Спроси у неё, – сказала баба Клава. – В конце концов, это ваша жизнь. Уже не моя. Не имею права, и ничего не могу сделать. Уже слишком поздно. По крайней мере, я попыталась. Прощай.
Она вдруг крепко обняла Никиту и протяжно всхлипнула. С шумом и свистом, но все так же, не проронив ни слезинки, всухую.
– Милый мой, держись. Бедное дитя. Дитя… трагедии.
Она резко отстранилась и быстро, не оглядываясь, пошла вдаль по улице, оставив Кита совершенно растерянного, с нелепо растопыренными руками, стоять на перекрёстке.
Москва. 29 лет назад. Нил
Митька смешно закусил губу, стараясь не смотреть на рваную рану, прорезавшую его лодыжку. Он изо всех сил пытался показать, что ему не больно.
– Эй, раненый боец, – я вылил на его ногу банку пива. Оно зашипело и поползло вниз, окрашивая и без того грязную кожу пивными разводами.
– Ты идиот? – заорал Митька. – Водой надо чистой! Будет заражение!
Он хлюпнул носом, и все-таки, не удержавшись, взвыл. Я похлопал его по плечу.
– Спиртом лучше всего. Но водки нет. Есть только пиво. В нем, наверное, тоже есть что-то обеззараживающее.
– В чем смысл? Тырить это, чтобы потом вылить?