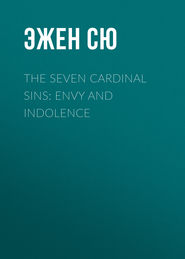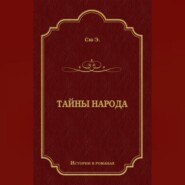По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жан Кавалье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Министра! Вот как! Добрейшая женщина, надо полагать, с ума спятила? Министра! Но в Севенах больше нет ни одного. К колесу или к кострам следовало ей обратиться за министром, если бы колесо или костер были в состоянии возвратить их. Вот каковы, в конце концов, эти дочери Евы! Вечно стремятся к запрещенному плоду! – пошутил сержант.
– В то время как первосвященник хотел исповедать ее, а она отказывалась, старушка и скончалась. И душа улетела... Эблис (черт) знает, куда, как говорят турки.
– И в наказание за то, что она сама себя обрекла на проклятие, тело старухи тащат на забор? – проговорил, пожимая плечами, сержант.
– Таков указ короля. Хорошо! Но гром и молния! Не дело таких храбрых партизан, как мы, микелеты, запрягаться в такую поклажу.
– По крайней мере, когда под начальством фельдмаршала Бутлера наши карабинеры рубили или расстреливали кого-нибудь, в продолжение двух дней им предоставлялся повышенный оклад; ограбление наказуемого шло в их пользу; сверх того они получали хорошую кружку рейнского от маршальских запасов, – сказал сержант, прищелкнув языком.
– К черту! Мои микелеты не возьмут на себя этого поручения, – проговорил Пуль, подумав с минуту. – Пусть эти куклы в кафтанах с золотыми галунами, которых они называют сен-серненскими драгунами, займутся этим. Я пойду объявить свое решение первосвященнику, убей его Бог!
– А если он вас принудит к этому, добрейший капитан?
– Принудить меня, Пуля? – проговорил партизан с презрительной улыбкой. – Мне не трудно поставить преграду между его и моей волей.
Сержант недоверчиво покачал головой и сказал Пулю:
– Послушайте, капитан! Долг чести и вежливость – прекрасные вещи. Но подумайте: здесь ведь хорошо платят, нас чуть не озолотили. Нам дают на каждого солдата тридцать су ежедневно, а вы им выплачиваете девять, из которых мы вычитаем десять за продовольствие и вооружение; в сущности же, мы разрешаем им питаться и вооружаться на чужой счет. Правда, вы настолько великодушны, что оставляете за ними нечто для покупки вина, табака и приобретения прочих сладостей жизни – то су, которое они обязаны были бы добавить к девяти су своего жалованья, чтобы быть с вами в расчете. Это великодушно. Но, наконец, эта щедрость не разоряет вас совершенно... и...
– Кончил ты, наконец? Кончил? – нетерпеливо крикнул рассерженный Пуль.
– Еще одно слово, добрейший капитан. По ходу дела весьма вероятно, что, в конце концов, загнанный за веру зверь лягнет, не выдержав побоев. Следовательно, если холопы возмутятся, хвала Господу, то кроме платы мы нагребем полные руки добра. Эта деревенщина питается каштанами и скупа, как черт. Они, наверное, прячут где-нибудь по горшкам или чулкам старые золотые и серебро. И хотя у вас нет больше Жюзена Бородатого или Чердына Черного, среди ваших микелетов всегда найдутся двое малых достаточно умных, чтобы запалить фитиль мушкета между пальцами этих министров и заставить их признаться, где находится курица с золотыми яйцами. И это еще только мелкая рыбка в нашем улове. Какие жирные налоги можно брать с богатых гугенотских купцов и с горных жантильомов, и с пасторов... Я кончаю, добрейший капитан, я кончаю, – поспешил заявить сержант. – Так вот, если вы запретите вашим людям прокатить в последний раз эту добрую женщину, если вы вернетесь в Руссильон или в другое место, поверьте мне, нигде не найдете выгод подобных здешним, а в особенности тех, какими воспользуетесь в будущем, когда вам прикажут обращаться с этой страной еще более сурово, чем с завоеванной. Надо надеяться, капитан, они возмутятся, они возмутятся!..
Убедительная речь сержанта, по-видимому, произвела некоторое впечатление на партизана. Он направился к своим солдатам, сопровождаемый Бонляром, который в душе радовался своей победе над сомнениями капитана. Возвратимся теперь на протестантский хутор, который так быстро превратился в обитель печали и отчаяния.
ЗАБОР
Был полдень. Жером Кавалье и его жена, все еще запертые в Божьей комнате, у дверей которой дежурил драгун, провели часть этой несчастной ночи, молясь за своих двоих детей.
В своем беспокойстве г-жа Кавалье не знала, что и думать о матери. Жива еще ее мать? Умерла она? Несчастная женщина. Если бы она знала, что ее мать, обессиленная агонией и ужасной борьбой, которую она так храбро выдерживала, чтобы не изменить своей вере, если бы она знала, что ее мать умерла, напрасно призывая свою дочь!.. Умерла под шум страшных проклятий первосвященника и монаха, принужденных поступать безо всякой жалости ввиду такого ожесточения. Так умереть суждено было ей, доброй и почтенной бабушке, мечтавшей закончить свою жизнь в один прекрасный день среди окружающей ее семьи, которую она набожно благословила бы!
Жером Кавалье уже несколько раз тщетно обращался к драгуну, стерегущему выход, в надежде получить какие-нибудь известия о бабушке. Окно оставалось открытым. Сквозь пушистую верхушку орешника виднелась часть дороги, которая вела на хутор. Появилось несколько драгун, которые вели лошадей на водопой. Протестант и его жена обратились к ним с расспросами, но в ответ получили лишь грубые шутки. До часу дня оставались они в этой смертельной тоске. Но вот раздались высокие и дикие звуки гобоев и тамбуринов драгун[10 - Вместо труб и литавр у драгун были гобои и барабаны. Эти всадники часто исполняли должность пехотинцев.].
В доме царствовала большая суета. Издали доносились пронзительные и дикие трубные звуки микелетов, тогда как внутри хутора слышались голоса низших офицеров, которые собирали своих солдат, делая перекличку. Обоим протестантам показалось было, что войска собираются покинуть Сент-Андеоль. Охваченные беспокойством и любопытством, они бросились к окну. Все ближе и ближе раздавались звуки труб микелетов. Глухой топот конницы указывал на то, что партизаны вступают на двор через главные ворота. Но их не было видно ни Жерому Кавалье, ни жене его. После сильного шума, господствовавшего целый час, на хуторе воцарилась глубокая тишина. Она испугала Кавалье и его жену. Сердца их сжались под бременем ужасного предчувствия.
Вдруг до их слуха донесся тихий, дрожащий, взволнованный шепот, исходивший, казалось, из окна, расположенного над тем, у которого стояли эти несчастные.
– Вы тут, господин и госпожа?
– Это голос Марты! – проговорила г-жа Кавалье. – Слава Богу! Мы получим сведения о нашей матери.
– Как поживает моя мать? Лучше ей? – крикнула она Марте.
Оба супруга, далеко высунувшись из окна, в глубокой тревоге ожидали ответа Марты. После небольшого молчания служанка проговорила голосом, прерываемым рыданиями:
– Ради Бога! Не оставайтесь у окна.
– Но моя мать, как чувствует себя моя мать? – повторила г-жа Кавалье.
– Господин, ради Бога, заставьте госпожу отойти от окна... Боже мой! Боже мой! Не оставайтесь у окна! – повторила Марта с глубоким ужасом.
– Отчего? – спросил Жером Кавалье в то время как его жена, начавшая подозревать нечто страшное, смотрела на него, охваченная ужасом.
– Ах, окно! Закройте окно! Вот они выезжают! – крикнула служанка.
И слышно было, как в комнате, где находилась служанка, ставни быстро захлопнулись. В то же мгновение, раньше чем оцепеневший Кавалье и его жена успели сделать малейшее движение, главная дверь хутора заскрипела, послышалось побрякивание бубенчиков лошади и... оба протестанта увидели, как мимо их окна галопом промчался, словно страшное видение, длинный ивовый плетень, в который веревками запряжена была кобылка, несшая на себе микелета самой отвратительной наружности. На этой изгороди они увидели тело своей матери. Ее седые волосы, уже запачканные кровью, тащились по грязи.
– Моя мать! – пронзительно вскрикнула г-жа Кавалье, бросившись к трупу с распростертыми руками.
С отчаяния или случайно, но несчастная женщина, в порыве своего горя, выпала из окна и убилась о подножие каменной скамьи, на которой накануне еще она мирно сидела, окруженная своими детьми. В это мгновение драгуны и микелеты, которые присутствовали при исполнении указа, в боевом порядке медленно проходили мимо окна. Посреди них виднелся первосвященник. Он сидел на своем иноходце в черном шерстяном кафтане. На нем был накинут черный плащ, почти скрывавший всю его фигуру. Его бледное лицо, принявшее землистый оттенок, под влиянием переносимых им глубоких волнений, носило выражение угрожающей отваги. С его лысого лба катился холодный пот. То он окидывал орлиным взором жителей Сент-Андеоля, которые, немые от ужаса, окружали хутор, то он бессознательно опускал глаза, точно мучимый тайными угрызениями совести.
Не без долгих и жестоких колебаний согласился аббат дю Шель на этот чудовищный поступок, соответствующий, однако, во всем указам и приказаниям короля. Он надеялся этим страшным примером нагнать страх на все население. Он встретил в бабушке этой, зараженной ересью семьи, такой непоколебимый фанатизм, такое полное отвращение к римской церкви, такую нечестивую решимость не отступать перед вечными муками, что всякое чувство жалости заглохло в нем. Но когда он увидел, как г-жа Кавалье выбросилась в окно, он был убежден, что она решилась на самоубийство. Это новое преступление еще больше, возмутило его. В своем религиозном негодовании он приказал, все еще сообразно указам, чтобы тело дочери, подобно телу матери, было влекомо на плетне.
Этот новый приказ был приведен в исполнение. Гугеноты Сент-Андеоля собрались у дверей хутора. Мужчины и женщины, старики и дети – все с непокрытыми головами, преклоняли колени в угрюмом и мертвенном молчании. Когда роковой плетень показался со двора, они запели громкими и звучными голосами заупокойный псалом. Трудно передать величие и глубокое отчаяние, которыми было проникнуто это пение. В созвучии этих голосов, от самых слабых до наиболее сильных, от самых свежих до наиболее дрожащих, послышалась общая гармония, торжественная, спокойная, угрожающая. Это был первый крик страдания и глухого негодования угнетаемого народа.
Напрасно маркиз де Флорак отдавал приказания низшим офицерам заставить замолчать этих крикунов. Угрозы и удары рукоятями мечей были бесполезны. Протестанты, оставаясь верными началам немой и непреклонной покорности, которую они проявляли на своих сходках, несмотря на все насилия, оставались на коленях и продолжали петь. Не с большим успехом драгуны двинулись на них в карьер, желая разогнать всех. Растоптанные лошадьми, ушибленные или раненые севенцы не произнесли ни малейшей жалобы. Они остались там, где преклонили колена; и те, которые не были смяты, продолжали свое пение с неустрашимым хладнокровием. Закончив псалом, они разошлись.
Вернемся к Жерому Кавалье. Все еще в заключении, несмотря на свои неотступные просьбы, несмотря на ужасную смерть жены, хуторянин, оставшись один в Божьей комнате, упал на колени, пораженный этим новым ударом. Полный горячей веры, он не взроптал на волю Божью. Твердо и с покорностью думал он о безнадежном будущем, которое готовит для него эта смерть. С поникшей головой молился он за душу матери своих детей, молился за душу ее матери, которую он так любил. К трем часам капуцин пришел за Селестой и Габриэлем: войска первосвященника выступали из местечка. Монах, не видя двух маленьких севенцев, первым делом бросился к кровати. Он приподнял занавес, но ничего не нашел.
– Дети! Где ваши дети? Вы мне отвечаете за них! – обратился он к Жерому Кавалье.
Старик, казалось, не слышал.
– Ваши дети, ваши дети? – проговорил капуцин.
Жером не глядя на монаха, прочел глухим голосом следующие стихи из Библии, в то время как слезы обливали его щеки: «Из всех его детей не находится ни одного, который поддержал бы его, и никто не протягивает руки, чтобы ему помочь».
Потеряв надежду узнать что-либо от хуторянина, капуцин обратился к драгуну.
– Дети, значит, вышли? Как смели вы их пропустить, несмотря на запрещение?
– Если дети исчезли, то через окно, так как они не выходили через дверь – грубо ответил солдат. – Чтобы не растерять их, следовало вам их спрятать к себе по одному в каждый рукав. Ваши рукава достаточно длинны для этого ваше преподобие.
– Негодяй! – с негодованием воскликнул капуцин. – Ты мне ответишь за исчезновение этих детей.
– Я отвечу? Тогда ваше преподобие мне ответит за каждое спотыканье моего коня. Это будет одинаково справедливо, – сказал солдат, пожимая плечами.
Совершенно равнодушный к угрозам монаха, он повернулся к нему спиной, не промолвив больше ни слова, и начал нахально насвистывать песенку из «Принца Оранского», отбивая такт своими шпорами. Капуцин с разъяренным видом снова обратился к Кавалье.
– Вы не хотите сказать, где ваши дети? В таком случае, вы пойдете в цепях до Монпелье. Суд сумеет заставить вас говорить.
Несмотря на самые тщательные поиски, Селеста и Габриэль не нашлись. Их несчастный отец был закован в цепи по распоряжению первосвященника и помещен на одну из тележек, в которых перевозили гугенотских пленников. Одни из них должны были находиться под присмотром аббата в монастыре Зеленогорский Мост, средоточии севенской миссии, других направляли в Монпелье, где их судили, сообразно их преступлениям.
Этих узников было очень много. Большинство состояло из жантильомов и гугенотских купцов, обвиненных в попытках покинуть Францию, несмотря на строгость королевских указов: подобные побеги запрещались под страхом ссылки на галеры и смертной казни за вторичную попытку. Женщины и молодые девушки, уличенные в таком же преступлении, отсылались в тюрьмы, где отбывали наказание в обществе различных негодяек и наглых преступниц. Там их публично наказывали кнутом рукой палача. Молодая совенка, по имени Катерина Ду, обвиненная в том, что говорила проповедь, была приговорена к повешению и казнена. Пастора, которого схватили в то время, как он увещевал собравшихся в горах протестантов, ожидало сожжение на костре. Множество детей обоего пола, оторванных от семьи, должны были получить в монастырях католическое воспитание.
Несчастных перевозили на длинных, узких повозках. Ноги узников вставлялись в бревна, рассеченные на всем своем протяжении: таким образом, не имея возможности ни стоять, ни лежать несчастные прислонялись к краям повозки, где великодушно постлана была для них солома; на такой запряженной быками повозке, в беспорядке были скучены мужчины, женщины и дети. Несчастные утешали друг друга, ободряли и взаимно увещевали терпеливо переносить гонения. Время от времени, желая рассеяться, они затягивали псалом или кто-нибудь читал громким голосом библейское изречение или пастырские письма г-на Жюрьё, скрытые от бдительности стражи.
Было около четырех часов, когда эта длинная вереница повозок была установлена на Сент-Андеольской площади. На первом возу находился Жером Кавалье. Несмотря на свою героическую стойкость, старик казался подавленным. Слезы не переставали катиться по его лицу, в особенности когда он бросил последний взгляд на этот хутор, когда-то столь спокойный, на эту очаровательную местность, которую он покидал полный отчаяния. Его жена погибла ужасной смертью. Он не знал, какая судьба ждет его детей. Старого, одинокого, слабого, его собирались бросить в мрачную страшную тюрьму Монпелье. Он чувствовал себя разбитым столькими ударами. Тем не менее он нашел некоторое утешение в трогательной привязанности одного из своих пахарей, по имени Кастанэ. С котомкой на плечах, держа свои башмаки и палку в руках, пахарь робко приблизился к повозке и сказал своему хозяину: