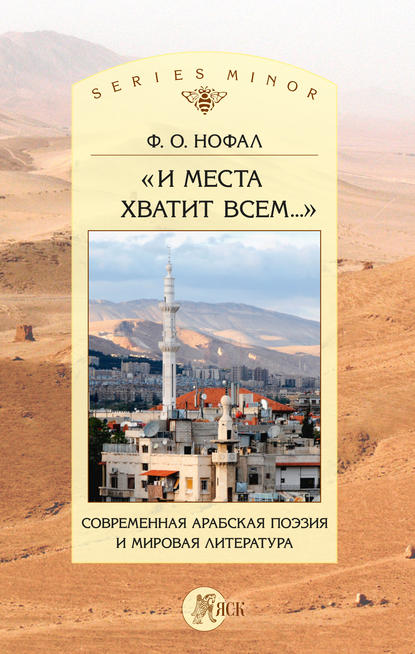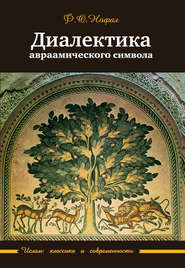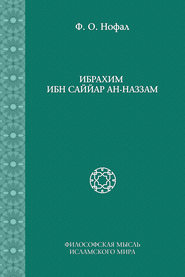По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«И места хватит всем…». Современная арабская поэзия и мировая литература
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ни покровов –
их слова суть волшебство – но не волшебство волхвов.
Несомненное сходство смыслов отсылает нас к эпохальным «Пилигримам» (1958) Бродского:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
«Святые» Сурура «подобны голубям», полет которых будет продолжаться до бесконечности, невзирая на смерть, – так же как и «пилигримы» Бродского, которым «остались только иллюзия и дорога». Таким образом, Дон Кихот «Необходимости необходимого» через свои монологи и диалоги проповедует метафизические построения Бродского, чье творчество было хорошо известно автору по его «европейской» биографиче ской вехе. Лик Дон Кихота Сервантеса, поражавший арабских литераторов, прежде всего прочего, своим «милитаристским оптимизмом», заслоняется у Сурура бледным, усталым ликом поэта-философа.
Хочется завершить этот очерк кратким итогом, который в то же время будет введением в тему: следует сказать несколько слов об общих особенностях всех упомянутых нами попыток «дон-кихотической» экзегезы. Центром арабской герменевтики Дон Кихота становится его принципиальная инаковость миру; при этом если европейская мысль в категориях феноменологической социологии А. Щюца пришла к выводу об инаковости персонажа романа «субуниверсумам реальности», то все поэты Ближнего Востока, так или иначе соприкасавшиеся с сервантесовской интуицией, свидетельствовали об инаковости Дон Кихота самой реальности. Расценивая Ламанчского Рыцаря как проповедника «метафизического реализма», арабская поэзия не могла не ввести его в круг суфийско-исмаилитских символов, наделив его пророческими и даже божественными чертами. «Арабский Дон Кихот» – не рыцарь, а скорее аскет-низарит, призванный быть и воином, и эмиссаром истины. Историко-культурному сознанию арабов оказался близок не столько чувственный, сколько религиозно-аллегорический пласт творения Сервантеса, ассимилированный массивом многовековой арабо-мусульманской литературной традиции.
Однако немаловажную роль в очаровании арабских интеллектуалов миром «Дон Кихота» сыграло проповеданное героем романа единство вербального и оперативного, воспетое классической исламской этикой. Соотнесенность слов и дел – главное политическо-социальное чаяние панарабистской интеллигенции конца первой половины и начала второй ХХ в. – так и осталась нереализованной. Перед лицом «культуры интифады» одна за другой разбивались многочисленные попытки скрепить национальное самосознание политическим реваншем. В этих условиях «симфоничный» лик Дон Кихота не мог остаться незамеченным видными ближневосточными творцами, так охотно «присвоившими» его «оппозиционный» ресурс. Подобная же «симфоничность» лика Рыцаря Печального Образа предварила рождение многочисленных «малых ликов», в которых, как в зеркале, отражались и загадочное сияние испанского всадника, и блеск копий далеких хозяев аравийских просторов.
II. Лолита[20 - Впервые опубликовано в: Нофал Ф. О. Арабская «Лолита»: метафизика «восточного» Эроса // Вопросы литературы. № 3. М., 2017. С. 347–362.]
Набоковской (1899–1977) «звездою», одинаково дорогой как самому писателю, так и его читателю, по праву можно назвать роман «Лолита» (1955). Читатель же, упомянутый нами, по признанию автора настолько многолик и многоязычен, что вряд ли может быть собран где-либо и когда-либо, под каким-либо видом или предлогом:
С тех пор «Лолита» переводилась на многие языки: она вышла отдельными изданиями в арабских странах, Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиле, Индии, Италии, Китае, Мексике, Норвегии, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Продажу ее только что разрешили в Австралии, но она все еще запрещена в Испании и Южно-Африканской Республике. Не появилась она и в пуританских странах за железным занавесом. Из всех этих переводов я отвечаю, в смысле точности и полноты, только за французский, который я сам проверил до напечатания. Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы, а еще яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, «перемещенная дама», недавно научившаяся английскому языку, или американец, который «брал» русский язык в университете[21 - Набоков В. В. Постскриптум к русскому изданию // Набоков В. В. Собр. соч. американского периода. Т. 2. СПб., 1999.].
Писавший свой postscriptum в 1965 г., Набоков хорошо знал обо всех переводах и изданиях своего детища в странах Европы, Азии и Южной Америки – в том числе и об араб ской «Лолите», впервые увидевшей свет в бейрутском издательстве «Дар ан-нашр ал-муттахида» в 1959 г.; первый перевод на арабский язык, перепечатанный в Дамаске спустя двадцать шесть лет, принадлежал перу Марвана ал-Джабири. С тех пор «Лолита» – единственное на тот момент доступное арабскому читателю творение русско-американского прозаика – неоднократно переводилась и издавалась Х. Ханной-Тадрасом (1969), Х. ал-Джубайли (2012), И. ’Абу Хамзой (2015), коллективами издательств «Дар Усама» и «Дар ал-адаб» (1988). Как верно отметил Владимир Владимирович, прежде других к многострадальному его роману прикоснулась интеллигенция Сирии и Ливана, но не североафриканских арабских стран – и именно ей, сирийско-ливанской интеллигенции, суждено было заложить основы арабского же набоковедения. Открыв для себя «Лолиту», переводчики обращаются к иным значительным работам Набокова – и в 60–90-е гг. в Дама ске издаются «Первая любовь» (пер. Х. Хаммад, 1960), «Пнин» (пер. Х. Хайри, 1960), «Смех в темноте» (1998), «Защита Лужина» (пер. Й. Халлака, 1999), «Машенька» (пер. Й. Халлака, 1999), а после – и «Соглядатай» (пер. Й. Ша'бана, 2002). Тем не менее именно «Лолита» и поныне остается наиболее продаваемым и читаемым в арабском мире набоковским произведением, расходившимся и расходящимся тысячными тиражами.
Итак, как уже было сказано выше, читателя «Лолиты» вряд ли можно сложить из томов ее переводов или журнальнокритичных, посвященных ей же на десятках языков, страниц. Но можно ли «собрать» саму «иноязычную» Долорес Гейз? Для ответа на столь некорректный вопрос стоит задаться вопросом другим, более экзегетически верным: какая Долорес Гейз была и остается видна «иноязычному» (в нашем случае – арабскому) наблюдателю? Почему именно эта нимфетка привлекла особое внимание носителей культуры, пересыщенной[22 - Полагаю, едва ли стоит отдельно говорить о том, насколько важную роль в истории становления арабской литературной классики сыграл образ молодой, далекой от современного нам порога совершеннолетия, девушки. Вспомним лишь о двух персонажах средневековой истории и культуры, хорошо известных сегодня любому интеллектуалу Востока и Запада – «матери правоверных», любимой жене Мухаммада (571–632) 'А’ише (612–678), выданной за Пророка, согласно известным сообщениям (см., напр.: Ибн Касир. Ал-Бидайа ва ан-нихайа (Начало и конец). Т. 3. Бейрут, 2003. С. 161 и др.), в девять лет, и Лейле, возлюбленной «Меджнуна» Кайса б. ал-Мулавваха (ум. 688), которой посвящены в том числе и следующие байты:Я привязан к Лейле с тех пор, как она, небольшая,не имела еще груди мягкости нежной.Двумя юнцами мы пасли скот –ах, если бы мы и доныне не взрослели – и не выросли б животные!(Кайс б. ал-Мулаввах. Диван. Бейрут, 1999. С. 28)], по большому счету, героинями-«нимфетками» самого разного ранга и статуса, их преступлениями и добродетелями?
На мой взгляд, решение обоих вышеупомянутых вопрошаний кроется именно в набоковской «амурологии», а вариативность рецепции образа Лолиты в арабской поэзии и прозе – в герменевтической ее, «амурологии», «дефрагментации».
Как верно замечает А. В. Злочевская в известной своей работе[23 - Злочевская А. В. Философия любви в романе Владимира Набокова «Лолита» // Studia Slavica. № 3–4. Hungary: Akademiai Kiado, 2005. P. 309–320.], с одной стороны, а А. В. Ливри – с другой[24 - Ливри А. В. Набоков-ницшеанец. СПб., 2005. См. также: Rodgers M. Lolita’s Nietzschean Morality // Philosophy and Literature. Vol. 35. № 1. Johns Hopkins University Press, 2011. Р. 104–120.], «теория любви» Набокова – равно как и его экзистенциализм в целом – черпает свои истоки в русской религиозной философии XIX–XX вв., так или иначе испытавшей влияние немецкого идеализма и идей Ф. Ницше (1844–1900). «Метафизика пола» Вл. С. Соловьева (1853–1900), Д. С. Мережковского (1865–1941), В. В. Розанова (1856–1919) и Н. А. Бердяева (1874–1948) с особым пиететом подходила к проблеме взаимоотношений влюбленных и их, взаимоотношений, «чтойности». Деятели, так или иначе связанные с движением «Нового религиозного сознания» (НРС), предлагали свои варианты апологии сексуальных отношений и меры их вовлеченности в цельность человеческого Эроса. Безусловно, рассуждали они, ценность полового общения нельзя отрицать, противопоставляя его «истинной любви» и тем более институту брака, второстепенному по отношению к сущности Эроса; однако даже пол как таковой не имеет, в отрыве от Эроса личностного, всеединого, никакой творческой силы, превращаясь в «Эрос нисходящий», деструктивный. И, хотя многие мыслители, вроде Мережковского, через учение о «преображении пола» приходили к идее «андрогина»[25 - Воронцова И. В. Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ в. М., 2008. С. 20–70.], в общих чертах, положительное отношение их к проблемам нерасколотого, двуединого любовного чувства, «таинства», свободного от всякого социального, «обезличивающего» формализма, было очевидным.
Решительный проповедник тотального неравенства, воспринятый русской культурой как «нигилист» и «физиолог», Фридрих Ницше не остался в стороне от споров о любви и браке. По мнению Ницше, любовь ошибочно воспринимать как альтруизм; тем не менее именно она, через мужчину-творца, властна «освободить в женщине женщину»[26 - Ницше Ф. Собр. соч. М., 1990. Т. 2. С. 121.]. Условность ин ститутов как таковых не ограничивает общение полов браком, но отмечается, в числе всего прочего, сущностной, природной подчиненностью женщины мужчине. Творчество разума и безумия слито в любви, объединяющей естественное и личное – и потому воспетой ницшеанским Заратустрой: целью женщины часто является ребенок, деторождение, но главным объектом ее любви должен стать мужчина[27 - Там же. С. 47–49.].
Таков, в общих своих чертах, литературно-философский контекст не одного произведения Набокова, его многоплановой «философии любви». Как мы увидим, именно его актуальность для арабского читателя и поднимала «Лолиту» на вершину общественного интереса Сирии и Ливана начиная с 50-х гг. прошлого века – годов расцвета марксистских и экзистенциалистских школ Ближнего Востока, пика деятельности таких мыслителей, как 'А. Бадави, Ш. Малик (1906–1987), С. Идрис (1925–2008) и Ж. Ханна (ум. 1969).
Крупнейшим прозаическим произведением современной арабской литературы, представившим реинтерпретацию образа Лолиты, критиками справедливо признан роман Васини ал-А'раджа «Пальцы Лолиты» (2012). В нем имя набоковской героини дается двадцатипятилетней алжирской девушке-модели Навве шестидесятилетним писателем Султаном Хамидом Сувайрати, публикующимся под псевдонимом Йунус Марина и преследуемым исламистами за свои работы. Встреча Йунуса и Лолиты оборачивается смертью обоих героев: в то время как сама Навва, будучи членом экстремистской группировки, совершает теракт-самоподрыв, идеологические противники скандально известного романиста находят свою жертву. Диалогичность романа, его «синестическая» дескриптивность отчасти повторяет стиль Набокова, отчасти – пародирует его, а отчасти – искажает, смещая акцент с психологии «мужеско-женской» «диады» на специфическую метафизическую, «родовую» проблематику, пронизывающую весь текст ал-А'раджа и более близкую другим opus’ам Набокова – в частности, эпохальному «Дару» (1952).
Несмотря на то что ал-А'радж неоднократно подчеркивал «перевернутость» собственного прочтения и, как следствие, толкования образа Долорес Гейз[28 - Аш-Шиди А. Маалат «ал-'арабийй ал-’ахир» хатмиййа, ма лам тахдус хазза тарихиййа тугаййир ал-ахдас (Прибежище «последнего араба» – прибежище роковое в отсутствие судьбоносного исторического землетрясения) // «'Амман», 15.02.16. (URL: http://omandaily.om/?p=320622 (http://omandaily.om/?p=320622). Дата обращения: 03.06.16.)], внимательный читатель «Пальцев Лолиты» не может не отметить определенного сходства в постановке и решении авторами «арабской» и «американской» «лолитиан» тех или иных, «архитектонических» для этого сюжета, проблем. К примеру, Навва следующим образом характеризует и свою набоковскую «коллегу», и свое детство:
Когда ты, в один из дней, позвал меня к ней, что-то зашевелилось внутри меня. Я, оставив тебя, подбежала к ближайшей лавке и купила «Лолиту» снова – и перечла заново, как в первый раз […] Я не нашла в ней ничего мне близкого – я была младше нее, да и хитрее. Двадцать лет мне хватило для того, чтобы у знать жизнь, – и вот, я уже у потолка. Проблема моего поколения состоит в том, что они проживают свою жизнь со странной скоростью; они взрослеют, не прикоснувшись к ней (с. 179).
Едва ли возможно не вспомнить схожие наблюдения Гумберта Г.:
Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас осознав неслыханный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней сорокалетний […] джентльмен […] когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок ее детского тела. В ее бледно-серых глазах, за раскосыми стеклами незнакомых очков, наш бедненький роман был на мгновение отражен, взвешен и отвергнут, как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник. […] не доказано мне […] что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены ни веса в разрезе вечности (II, 29; 31).
Ницшеанско-гераклитову идею «вечного возвращения», дорогую Набокову, постулирует и Лолита-Навва, насмехающаяся над самой страстью человека к новизне. При этом непокорная «экстремистка», как и другие, едва перешагнувшие порог двадцатипятилетия, героини романа ал-А'раджа, принимает дорогую для большинства художников русского религиозно-литературного ренессанса мысль – мысль о бессмысленности «формы» социального брака для «материи» Эроса:
Жан-Поль Сартр и та дура, которую зовут Симона де Бовуар, все же поняли загодя, что самая жалкая ловушка, предуготовленная человеку – это брак. Нет на свете силы, могущей заставить нас заложить глубокую нашу свободу (с. 376)[29 - Ср. с известным отношением Набокова к Сартру: «Кстати, не знаю, кого сейчас особенно чтят в России – кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баловней западной буржуазии» (Набоков В. В. Постскриптум к русскому изданию // Набоков В. В. Собр. соч. американского периода. Т. 2. СПб., 1999).].
Лолита ал-А'раджа, пережившая в детстве акт полового насилия со стороны родного отца, не верит ни в моральную, ни в «защитную» ценность института брака при отсутствии внимания к личностному, но не родовому, безлично-половому, началу[30 - В этой связи следует заметить, что исключительно «социальное» измерение образ Лолиты получает в романе «Запретная» йеменского писателя 'Али ал-Макарри (2012), главная героиня которого пытается о свободиться от «легальной» с точки зрения общества – но роковой для отдельно взятой личности – системы социальных отношений.].
Понимаешь ли ты, Марина, что ощущение безопасно сти – это самое главное для женщины, живущей в обществе, не порвавшем со своей «мужественностью»? Пустота и бессмысленность болезненны. Настоящая страсть возникает лишь то гда, когда мы ощущаем себя частью необходимостей Другого (с. 51).
Тем не менее «присутствие-в-Другом», неоднократно превознесенное христианскими мыслителями современно сти, не может спасти отдельно взятого человека от в- и за-брошенно сти в сумерках небытия самого разного рода – а потому лучшим «искусственным» «протагонистом» романа ал-А'раджа становятся не годы американской героини, все-таки сумевшей связать свою беспечность с максимально достойной своего возраста «хитростью», а бледные пальцы знаменитой «Магдалины» (1638–1643) Ж. де Латура (1593–1652), покоящиеся на равнодушном, едва освещенном пламенем свечи, черепе – символе краха всех «утопий», одинаково дорогих и для средневекового, и для нынешнего «арабского разума».
Книга «Пальцы Лолиты» В. ал-А'раджа, несомненно, является его очередным романом-манифестом, проповедующим близкие русской религиозной мысли «амурологические» идеалы – ранее темы ревизии института брака в пользу абсолютного «любовного персонализма» находили свое развитие на страницах «Женщины тумана» (2010) и «Ожерелья жасмина» (2003) – последнее заглавие, впрочем, в определенном смысле роднит прозу алжирского профессора с поэзией знаменитого сирийского дипломата Н. Каббани[31 - Имеется в виду поэма Каббани «Ожерелья жасмина» (1956), опубликованная в сборнике «Касыды».], также обращавшейся к образу набоковской «нимфетки».
Вышедший из дамасской типографии в 1961 г. диван «Моя любимая» продолжил знакомство арабского читателя с лирикой Каббани, характерный стиль которой уже был обозначен в первых сборниках автора – в частности, «Детстве Нахд» (1948), «Ты – моя» (1950) и «Касыдах» (1956). Возрождая «физиологическую» чувственность, воспетую поэтами Древней Аравии и золотого века Халифата, Каббани стремился посвятить новые строфы своему излюбленному сюжету, представленному в том числе и в следующих байтах:
их слова суть волшебство – но не волшебство волхвов.
Несомненное сходство смыслов отсылает нас к эпохальным «Пилигримам» (1958) Бродского:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
«Святые» Сурура «подобны голубям», полет которых будет продолжаться до бесконечности, невзирая на смерть, – так же как и «пилигримы» Бродского, которым «остались только иллюзия и дорога». Таким образом, Дон Кихот «Необходимости необходимого» через свои монологи и диалоги проповедует метафизические построения Бродского, чье творчество было хорошо известно автору по его «европейской» биографиче ской вехе. Лик Дон Кихота Сервантеса, поражавший арабских литераторов, прежде всего прочего, своим «милитаристским оптимизмом», заслоняется у Сурура бледным, усталым ликом поэта-философа.
Хочется завершить этот очерк кратким итогом, который в то же время будет введением в тему: следует сказать несколько слов об общих особенностях всех упомянутых нами попыток «дон-кихотической» экзегезы. Центром арабской герменевтики Дон Кихота становится его принципиальная инаковость миру; при этом если европейская мысль в категориях феноменологической социологии А. Щюца пришла к выводу об инаковости персонажа романа «субуниверсумам реальности», то все поэты Ближнего Востока, так или иначе соприкасавшиеся с сервантесовской интуицией, свидетельствовали об инаковости Дон Кихота самой реальности. Расценивая Ламанчского Рыцаря как проповедника «метафизического реализма», арабская поэзия не могла не ввести его в круг суфийско-исмаилитских символов, наделив его пророческими и даже божественными чертами. «Арабский Дон Кихот» – не рыцарь, а скорее аскет-низарит, призванный быть и воином, и эмиссаром истины. Историко-культурному сознанию арабов оказался близок не столько чувственный, сколько религиозно-аллегорический пласт творения Сервантеса, ассимилированный массивом многовековой арабо-мусульманской литературной традиции.
Однако немаловажную роль в очаровании арабских интеллектуалов миром «Дон Кихота» сыграло проповеданное героем романа единство вербального и оперативного, воспетое классической исламской этикой. Соотнесенность слов и дел – главное политическо-социальное чаяние панарабистской интеллигенции конца первой половины и начала второй ХХ в. – так и осталась нереализованной. Перед лицом «культуры интифады» одна за другой разбивались многочисленные попытки скрепить национальное самосознание политическим реваншем. В этих условиях «симфоничный» лик Дон Кихота не мог остаться незамеченным видными ближневосточными творцами, так охотно «присвоившими» его «оппозиционный» ресурс. Подобная же «симфоничность» лика Рыцаря Печального Образа предварила рождение многочисленных «малых ликов», в которых, как в зеркале, отражались и загадочное сияние испанского всадника, и блеск копий далеких хозяев аравийских просторов.
II. Лолита[20 - Впервые опубликовано в: Нофал Ф. О. Арабская «Лолита»: метафизика «восточного» Эроса // Вопросы литературы. № 3. М., 2017. С. 347–362.]
Набоковской (1899–1977) «звездою», одинаково дорогой как самому писателю, так и его читателю, по праву можно назвать роман «Лолита» (1955). Читатель же, упомянутый нами, по признанию автора настолько многолик и многоязычен, что вряд ли может быть собран где-либо и когда-либо, под каким-либо видом или предлогом:
С тех пор «Лолита» переводилась на многие языки: она вышла отдельными изданиями в арабских странах, Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиле, Индии, Италии, Китае, Мексике, Норвегии, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Продажу ее только что разрешили в Австралии, но она все еще запрещена в Испании и Южно-Африканской Республике. Не появилась она и в пуританских странах за железным занавесом. Из всех этих переводов я отвечаю, в смысле точности и полноты, только за французский, который я сам проверил до напечатания. Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы, а еще яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, «перемещенная дама», недавно научившаяся английскому языку, или американец, который «брал» русский язык в университете[21 - Набоков В. В. Постскриптум к русскому изданию // Набоков В. В. Собр. соч. американского периода. Т. 2. СПб., 1999.].
Писавший свой postscriptum в 1965 г., Набоков хорошо знал обо всех переводах и изданиях своего детища в странах Европы, Азии и Южной Америки – в том числе и об араб ской «Лолите», впервые увидевшей свет в бейрутском издательстве «Дар ан-нашр ал-муттахида» в 1959 г.; первый перевод на арабский язык, перепечатанный в Дамаске спустя двадцать шесть лет, принадлежал перу Марвана ал-Джабири. С тех пор «Лолита» – единственное на тот момент доступное арабскому читателю творение русско-американского прозаика – неоднократно переводилась и издавалась Х. Ханной-Тадрасом (1969), Х. ал-Джубайли (2012), И. ’Абу Хамзой (2015), коллективами издательств «Дар Усама» и «Дар ал-адаб» (1988). Как верно отметил Владимир Владимирович, прежде других к многострадальному его роману прикоснулась интеллигенция Сирии и Ливана, но не североафриканских арабских стран – и именно ей, сирийско-ливанской интеллигенции, суждено было заложить основы арабского же набоковедения. Открыв для себя «Лолиту», переводчики обращаются к иным значительным работам Набокова – и в 60–90-е гг. в Дама ске издаются «Первая любовь» (пер. Х. Хаммад, 1960), «Пнин» (пер. Х. Хайри, 1960), «Смех в темноте» (1998), «Защита Лужина» (пер. Й. Халлака, 1999), «Машенька» (пер. Й. Халлака, 1999), а после – и «Соглядатай» (пер. Й. Ша'бана, 2002). Тем не менее именно «Лолита» и поныне остается наиболее продаваемым и читаемым в арабском мире набоковским произведением, расходившимся и расходящимся тысячными тиражами.
Итак, как уже было сказано выше, читателя «Лолиты» вряд ли можно сложить из томов ее переводов или журнальнокритичных, посвященных ей же на десятках языков, страниц. Но можно ли «собрать» саму «иноязычную» Долорес Гейз? Для ответа на столь некорректный вопрос стоит задаться вопросом другим, более экзегетически верным: какая Долорес Гейз была и остается видна «иноязычному» (в нашем случае – арабскому) наблюдателю? Почему именно эта нимфетка привлекла особое внимание носителей культуры, пересыщенной[22 - Полагаю, едва ли стоит отдельно говорить о том, насколько важную роль в истории становления арабской литературной классики сыграл образ молодой, далекой от современного нам порога совершеннолетия, девушки. Вспомним лишь о двух персонажах средневековой истории и культуры, хорошо известных сегодня любому интеллектуалу Востока и Запада – «матери правоверных», любимой жене Мухаммада (571–632) 'А’ише (612–678), выданной за Пророка, согласно известным сообщениям (см., напр.: Ибн Касир. Ал-Бидайа ва ан-нихайа (Начало и конец). Т. 3. Бейрут, 2003. С. 161 и др.), в девять лет, и Лейле, возлюбленной «Меджнуна» Кайса б. ал-Мулавваха (ум. 688), которой посвящены в том числе и следующие байты:Я привязан к Лейле с тех пор, как она, небольшая,не имела еще груди мягкости нежной.Двумя юнцами мы пасли скот –ах, если бы мы и доныне не взрослели – и не выросли б животные!(Кайс б. ал-Мулаввах. Диван. Бейрут, 1999. С. 28)], по большому счету, героинями-«нимфетками» самого разного ранга и статуса, их преступлениями и добродетелями?
На мой взгляд, решение обоих вышеупомянутых вопрошаний кроется именно в набоковской «амурологии», а вариативность рецепции образа Лолиты в арабской поэзии и прозе – в герменевтической ее, «амурологии», «дефрагментации».
Как верно замечает А. В. Злочевская в известной своей работе[23 - Злочевская А. В. Философия любви в романе Владимира Набокова «Лолита» // Studia Slavica. № 3–4. Hungary: Akademiai Kiado, 2005. P. 309–320.], с одной стороны, а А. В. Ливри – с другой[24 - Ливри А. В. Набоков-ницшеанец. СПб., 2005. См. также: Rodgers M. Lolita’s Nietzschean Morality // Philosophy and Literature. Vol. 35. № 1. Johns Hopkins University Press, 2011. Р. 104–120.], «теория любви» Набокова – равно как и его экзистенциализм в целом – черпает свои истоки в русской религиозной философии XIX–XX вв., так или иначе испытавшей влияние немецкого идеализма и идей Ф. Ницше (1844–1900). «Метафизика пола» Вл. С. Соловьева (1853–1900), Д. С. Мережковского (1865–1941), В. В. Розанова (1856–1919) и Н. А. Бердяева (1874–1948) с особым пиететом подходила к проблеме взаимоотношений влюбленных и их, взаимоотношений, «чтойности». Деятели, так или иначе связанные с движением «Нового религиозного сознания» (НРС), предлагали свои варианты апологии сексуальных отношений и меры их вовлеченности в цельность человеческого Эроса. Безусловно, рассуждали они, ценность полового общения нельзя отрицать, противопоставляя его «истинной любви» и тем более институту брака, второстепенному по отношению к сущности Эроса; однако даже пол как таковой не имеет, в отрыве от Эроса личностного, всеединого, никакой творческой силы, превращаясь в «Эрос нисходящий», деструктивный. И, хотя многие мыслители, вроде Мережковского, через учение о «преображении пола» приходили к идее «андрогина»[25 - Воронцова И. В. Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ в. М., 2008. С. 20–70.], в общих чертах, положительное отношение их к проблемам нерасколотого, двуединого любовного чувства, «таинства», свободного от всякого социального, «обезличивающего» формализма, было очевидным.
Решительный проповедник тотального неравенства, воспринятый русской культурой как «нигилист» и «физиолог», Фридрих Ницше не остался в стороне от споров о любви и браке. По мнению Ницше, любовь ошибочно воспринимать как альтруизм; тем не менее именно она, через мужчину-творца, властна «освободить в женщине женщину»[26 - Ницше Ф. Собр. соч. М., 1990. Т. 2. С. 121.]. Условность ин ститутов как таковых не ограничивает общение полов браком, но отмечается, в числе всего прочего, сущностной, природной подчиненностью женщины мужчине. Творчество разума и безумия слито в любви, объединяющей естественное и личное – и потому воспетой ницшеанским Заратустрой: целью женщины часто является ребенок, деторождение, но главным объектом ее любви должен стать мужчина[27 - Там же. С. 47–49.].
Таков, в общих своих чертах, литературно-философский контекст не одного произведения Набокова, его многоплановой «философии любви». Как мы увидим, именно его актуальность для арабского читателя и поднимала «Лолиту» на вершину общественного интереса Сирии и Ливана начиная с 50-х гг. прошлого века – годов расцвета марксистских и экзистенциалистских школ Ближнего Востока, пика деятельности таких мыслителей, как 'А. Бадави, Ш. Малик (1906–1987), С. Идрис (1925–2008) и Ж. Ханна (ум. 1969).
Крупнейшим прозаическим произведением современной арабской литературы, представившим реинтерпретацию образа Лолиты, критиками справедливо признан роман Васини ал-А'раджа «Пальцы Лолиты» (2012). В нем имя набоковской героини дается двадцатипятилетней алжирской девушке-модели Навве шестидесятилетним писателем Султаном Хамидом Сувайрати, публикующимся под псевдонимом Йунус Марина и преследуемым исламистами за свои работы. Встреча Йунуса и Лолиты оборачивается смертью обоих героев: в то время как сама Навва, будучи членом экстремистской группировки, совершает теракт-самоподрыв, идеологические противники скандально известного романиста находят свою жертву. Диалогичность романа, его «синестическая» дескриптивность отчасти повторяет стиль Набокова, отчасти – пародирует его, а отчасти – искажает, смещая акцент с психологии «мужеско-женской» «диады» на специфическую метафизическую, «родовую» проблематику, пронизывающую весь текст ал-А'раджа и более близкую другим opus’ам Набокова – в частности, эпохальному «Дару» (1952).
Несмотря на то что ал-А'радж неоднократно подчеркивал «перевернутость» собственного прочтения и, как следствие, толкования образа Долорес Гейз[28 - Аш-Шиди А. Маалат «ал-'арабийй ал-’ахир» хатмиййа, ма лам тахдус хазза тарихиййа тугаййир ал-ахдас (Прибежище «последнего араба» – прибежище роковое в отсутствие судьбоносного исторического землетрясения) // «'Амман», 15.02.16. (URL: http://omandaily.om/?p=320622 (http://omandaily.om/?p=320622). Дата обращения: 03.06.16.)], внимательный читатель «Пальцев Лолиты» не может не отметить определенного сходства в постановке и решении авторами «арабской» и «американской» «лолитиан» тех или иных, «архитектонических» для этого сюжета, проблем. К примеру, Навва следующим образом характеризует и свою набоковскую «коллегу», и свое детство:
Когда ты, в один из дней, позвал меня к ней, что-то зашевелилось внутри меня. Я, оставив тебя, подбежала к ближайшей лавке и купила «Лолиту» снова – и перечла заново, как в первый раз […] Я не нашла в ней ничего мне близкого – я была младше нее, да и хитрее. Двадцать лет мне хватило для того, чтобы у знать жизнь, – и вот, я уже у потолка. Проблема моего поколения состоит в том, что они проживают свою жизнь со странной скоростью; они взрослеют, не прикоснувшись к ней (с. 179).
Едва ли возможно не вспомнить схожие наблюдения Гумберта Г.:
Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас осознав неслыханный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней сорокалетний […] джентльмен […] когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок ее детского тела. В ее бледно-серых глазах, за раскосыми стеклами незнакомых очков, наш бедненький роман был на мгновение отражен, взвешен и отвергнут, как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник. […] не доказано мне […] что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены ни веса в разрезе вечности (II, 29; 31).
Ницшеанско-гераклитову идею «вечного возвращения», дорогую Набокову, постулирует и Лолита-Навва, насмехающаяся над самой страстью человека к новизне. При этом непокорная «экстремистка», как и другие, едва перешагнувшие порог двадцатипятилетия, героини романа ал-А'раджа, принимает дорогую для большинства художников русского религиозно-литературного ренессанса мысль – мысль о бессмысленности «формы» социального брака для «материи» Эроса:
Жан-Поль Сартр и та дура, которую зовут Симона де Бовуар, все же поняли загодя, что самая жалкая ловушка, предуготовленная человеку – это брак. Нет на свете силы, могущей заставить нас заложить глубокую нашу свободу (с. 376)[29 - Ср. с известным отношением Набокова к Сартру: «Кстати, не знаю, кого сейчас особенно чтят в России – кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баловней западной буржуазии» (Набоков В. В. Постскриптум к русскому изданию // Набоков В. В. Собр. соч. американского периода. Т. 2. СПб., 1999).].
Лолита ал-А'раджа, пережившая в детстве акт полового насилия со стороны родного отца, не верит ни в моральную, ни в «защитную» ценность института брака при отсутствии внимания к личностному, но не родовому, безлично-половому, началу[30 - В этой связи следует заметить, что исключительно «социальное» измерение образ Лолиты получает в романе «Запретная» йеменского писателя 'Али ал-Макарри (2012), главная героиня которого пытается о свободиться от «легальной» с точки зрения общества – но роковой для отдельно взятой личности – системы социальных отношений.].
Понимаешь ли ты, Марина, что ощущение безопасно сти – это самое главное для женщины, живущей в обществе, не порвавшем со своей «мужественностью»? Пустота и бессмысленность болезненны. Настоящая страсть возникает лишь то гда, когда мы ощущаем себя частью необходимостей Другого (с. 51).
Тем не менее «присутствие-в-Другом», неоднократно превознесенное христианскими мыслителями современно сти, не может спасти отдельно взятого человека от в- и за-брошенно сти в сумерках небытия самого разного рода – а потому лучшим «искусственным» «протагонистом» романа ал-А'раджа становятся не годы американской героини, все-таки сумевшей связать свою беспечность с максимально достойной своего возраста «хитростью», а бледные пальцы знаменитой «Магдалины» (1638–1643) Ж. де Латура (1593–1652), покоящиеся на равнодушном, едва освещенном пламенем свечи, черепе – символе краха всех «утопий», одинаково дорогих и для средневекового, и для нынешнего «арабского разума».
Книга «Пальцы Лолиты» В. ал-А'раджа, несомненно, является его очередным романом-манифестом, проповедующим близкие русской религиозной мысли «амурологические» идеалы – ранее темы ревизии института брака в пользу абсолютного «любовного персонализма» находили свое развитие на страницах «Женщины тумана» (2010) и «Ожерелья жасмина» (2003) – последнее заглавие, впрочем, в определенном смысле роднит прозу алжирского профессора с поэзией знаменитого сирийского дипломата Н. Каббани[31 - Имеется в виду поэма Каббани «Ожерелья жасмина» (1956), опубликованная в сборнике «Касыды».], также обращавшейся к образу набоковской «нимфетки».
Вышедший из дамасской типографии в 1961 г. диван «Моя любимая» продолжил знакомство арабского читателя с лирикой Каббани, характерный стиль которой уже был обозначен в первых сборниках автора – в частности, «Детстве Нахд» (1948), «Ты – моя» (1950) и «Касыдах» (1956). Возрождая «физиологическую» чувственность, воспетую поэтами Древней Аравии и золотого века Халифата, Каббани стремился посвятить новые строфы своему излюбленному сюжету, представленному в том числе и в следующих байтах:
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: