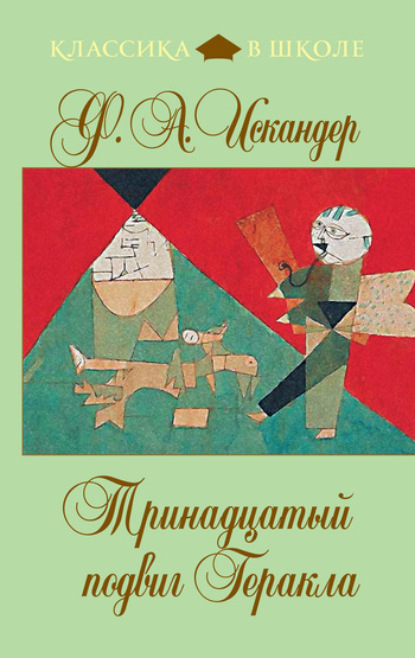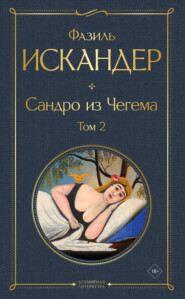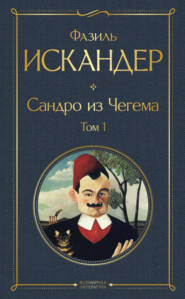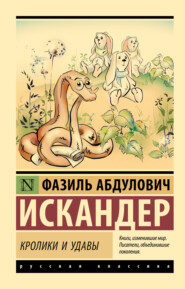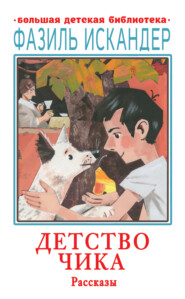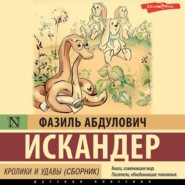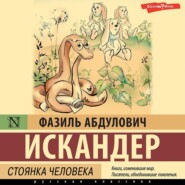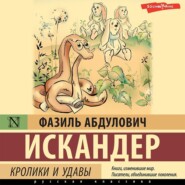По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тринадцатый подвиг Геракла (сборник)
Жанр
Серия
Год написания книги
2011
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Среди наших футболистов особенно выделялись двое – один из нападающих и защитник.
Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но, пожалуй, бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, делал финты и в конце концов так запутывался, что бил в двух шагах от ворот мимо или неожиданно с какой-то оскорбительной легкостью у него отбирали мяч. Партнер, который все это время прямо-таки вымаливал у него подачу, останавливался как вкопанный, как бы призывая весь стадион в свидетели. Судорожно вытянув руки, он показывал на то место, где стоял и откуда он якобы обязательно забил бы гол.
Нападающий делал вид, что только что его заметил, и, покаянно опустив голову, покрытую черными глянцевитыми волосами, удалялся к центру. Но как только ему попадал мяч, он мгновенно забывал свое покаяние, и все повторялось сначала. Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удавалось забить мяч! Овеваемый гулом обожания, не глядя ни на кого, ровной рысцой, как цирковая лошадка, он бежал к середине поля.
Про длинного, всегда невозмутимого защитника пацаны рассказывали легенды. Он был левша, но говорили, что правой ногой ему запретили бить после того, как он ударом мяча убил голкипера. Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника. Он и в самом деле сильно бил. Бывало, выбежит навстречу мячу и как саданет! А потом лениво возвращается на место, уверенный, что после его удара мяч не так-то скоро прилетит обратно.
Иногда мяч влетал на трибуну, и, когда кто-нибудь его оттуда выбивал, почему-то все начинали смеяться.
После первого тайма потные, усталые футболисты, тяжело передвигая могучие ноги, возвращались в раздевалку. Некоторые усаживались возле раздевалки на трибунах. К ним подходили знакомые, пожимали руки, разговаривали.
Если игра складывалась плохо, особенно желчные болельщики вступали с нашими футболистами в спор и даже иногда рвались в драку, но их тут же оттаскивали окружающие.
Иногда на трибунах усаживались и представители тбилисского «Динамо». Среди них почти всегда было два-три наших бывших игрока. К ним тоже подходили знакомые и разговаривали, с одной стороны, стараясь показать, что они близко знают знаменитых игроков, с другой стороны, независимым видом и сдержанностью показывая, что они не собираются подхалимничать перед ними.
Эту мирную, сдержанную беседу иногда прерывал какой-нибудь не в меру патриотичный болельщик. Подойдя близко к футболисту и беседующим с ним землякам, он враждебно прислушивался к тому, что они говорят, стараясь извлечь пищу для своего гнева из самого содержания их разговора. При этом он, не скрывая презрения, поглядывал на наших людей, которые не стыдятся разговаривать с человеком, покинувшим родную команду.
В конце концов он вмешивался в разговор и начинал спорить с ним, иногда совершенно не имея для этого никакого повода.
– А ты, продажный изменник, молчи! – в конце концов обращался он к бывшему нашему футболисту и уходил с видом человека, исполнившего свой гражданский долг. Иногда такого рода патриоты поступали несколько хитрее. Они нанимали за порцию мороженого какого-нибудь мальчика, чтобы тот крикнул бывшему нашему футболисту то же самое и убежал.
Обычно футболист после этого уходил в раздевалку, а те, что до этого с ним разговаривали, выражали неодобрение на эти оскорбительные выпады.
– Это тоже неправильно, – говорили они, – человек растет, ему надо выдвигаться!
– Мы не против, – говорили другие, – но, пока молодой, мог еще два-три года поиграть, отплатить добром своей команде, которая научила тебя играть…
– Пожалуйста, уходи! – вдруг вмешивался человек, как бы озаренный совершенно новым взглядом на эту старую проблему. – Но только при одном условии…
– Каком условии? – с большим любопытством начинали спрашивать остальные, придвигаясь к этому человеку и окружая его кольцом.
– В родном поле не играй! – с огромной силой произносил этот человек и оглядывал окружающих с некоторой патриотической агрессивностью.
– Тоже правильно! – соглашались окружающие, хотя и ясно было, что они ожидали чего-то более оригинального. Но сама эта патриотическая агрессивность, как бы вызванная непомерной любовью к своему городу, мешала им высказать свой взгляд на недостатки этого предложения.
Некоторые футболисты сразу же после перерыва подбегали к ларьку, прилепившемуся к ограде. Ларек одним окошечком открывался внутрь стадиона.
Жаркие, запрокинув голову, не отрывая бутылки ото рта, они пили, прислушиваясь к собственному удовольствию, высасывали маленький водоворот прохлады, словно трубили в трубу какую-то вкусную беззвучную мелодию утоления.
Обычно они брали сразу по две бутылки и, допивая одну, уже вторую держали наготове и даже слегка приподымали руку со второй бутылкой, как бы успокаивая свою жажду: мол, не бойся, еще есть.
Насмотревшись на футболистов, пьющих лимонад, я подходил к дощатой изгороди стадиона. Сколько томительных часов провел я здесь, только по ту сторону, когда дядя бывал в командировках, а мне не удавалось пройти зайцем!
В таких случаях вместе с остальными неудачниками мы следили за игрой, прильнув к щелям в заборе. Правда, лучшие щели всегда забирали ребята постарше нас, так что и среди неудачников не было равенства, но все же и на нас хватало.
Теперь я подходил к изгороди по-хозяйски изнутри. Десятки ребячьих глаз жадно глядели на меня. Многие из пацанов были мне знакомы. Я несколько покровительственно рассказывал им кое-какие подробности матча. Они завистливо слушали меня, иногда спрашивали:
– Как проканал?
– Я с дядей, – отвечал я.
– А-а, – вздыхали они.
Возле забора похаживал милиционер. Когда он отходил подальше или отворачивался, я давал им знак, они перелезали через забор и быстро ныряли в толпу. Я возвращался на место, испытывая двойную радость и от собственной добропорядочности, и оттого, что удалось провести милиционера.
Иногда мы с дядей приходили на стадион помыться в душевой. Это тоже было привилегией для своего человека. Дядя быстро раздевался, аккуратно складывал одежду и пускал воду. Я становился под крепкую толкающую струю, пыхтел и отфыркивался, делая вид, что смываю с себя грязь, хотя был уверен, что никакой грязи на мне нет. Дядя мылся с удовольствием. Его мускулистое тело все время двигалось, под мышкой трепыхалась смешная родинка, похожая на маленькую матрешку. Потом он обтирался скрипящим махровым полотенцем, подмигивал мне, посмеиваясь над моей неловкостью.
После купания тело делалось легким и сильным. Мы шли домой. Я вышагивал рядом с ним, с обожанием глядя на его лицо, на блестящие волосы, причесанные на косой пробор, на его улыбающийся рот. Я чувствовал, что моя персона сама по себе доставляет ему какое-то насмешливое удовольствие, и это почему-то радовало, окрыляло. Мы любили друг друга. Это было точно.
Между прочим, я не помню, чтобы он меня когда-нибудь целовал. Может быть, это бывало, но, видимо, так редко, что я не запомнил. В нашей огромной родне и вообще в кругу наших знакомых на детей, и в том числе на меня, обрушивалось неимоверное число поцелуев. Господи, как я ненавидел эти поцелуи! Жестко-небритые, винно-водочные, чмокающие, скребущие, сосущие. Особенно женские, противно пахнущие помадой, особенно же среди особенных поцелуи женщин с неудавшимися судьбами, я их сразу отличал по какой-то свойственной им тупиковой силе удара. От поцелуев было трудно увернуться, приходилось терпеть, чтобы не обидеть взрослых.
Дядя был высшим авторитетом не только у нас в семье, но и во дворе, многолюдном, многоязычном и по-южному шумном. Женщины нашего двора, постоянно переругивавшиеся, стараясь перекричать собственные примуса, смолкали, когда он входил во двор, прихорашивались, вспоминали, что они женщины.
Работал он экономистом в каком-то заготовительном учреждении, а тогда я думал, что он занят сказочной работой, смысл которой – делать людей умелыми, веселыми, легкими. В сущности, так оно и было.
По воскресеньям дядя выводил из дому велосипед, и мы ездили купаться на море.
Помню ослепительный день. Дядя в белоснежном костюме, какой-то особенно свежий, бодрый. Сверкают быстро мелькающие спицы, руль, звонок на руле, даже камни мостовой, по которой мы едем. Велосипед дребезжит, вибрирует на туго накачанных шинах. Сидеть на подпрыгивающей раме больно, ноги приходится неудобно подтягивать, чтобы не мешать дяде педалить. Он то и дело просит меня, чтобы я держал руль посвободней, но какой-то страх заставляет меня сжимать его изо всех сил.
Встречный ветер надувает рубаху, режет глаза, но я каждым нервом и мускулом впиваю счастье езды, нашей с ним дружбы, близости моря. Я замечаю, как встречные мужчины и женщины улыбаются нам, кивают дяде, некоторые успевают спросить:
– Сын?
– Племянник, – бросает дядя, и я чувствую в голосе его улыбку.
«Племянник», – повторял я про себя вкусное, веселое слово, похожее на пряник. Мне казалось, что именно этому сходству слов улыбается он.
Дядя в те времена, когда я его стал помнить, жил с матерью и сестрой в нашем доме. До этого он был женат и жил где-то в другом месте, но я этого времени не застал.
После работы в летнее время он обычно отдыхал в своей кровати под марлевым балдахином от комаров и мух.
Я часто приходил к нему в комнату, садился за письменный стол и листал книги или рисовал, валяясь на старой рогатой шкуре тура, распластанной перед кроватью. Под колониальным балдахином таинственно шелестели страницы Мопассана и Стефана Цвейга.
Приходя к нему, я каждый раз просил листик бумаги, чтобы изобразить очередную баталию с фашистами. Однажды он мне сказал, что у него не осталось ни одного листика.
– Ну, тогда дай веточку, – неизвестно зачем сказал я. Ответ ему так понравился, что он, смеясь, потом часто рассказывал об этом своим друзьям.
Дядя часто мне что-нибудь приносил с работы. Бывало, разденется, позовет меня и говорит, улыбаясь и заранее наслаждаясь моей радостью:
– А ну-ка, посмотри, что у меня там в кармане?
Я бегу к вешалке, роюсь в карманах, в сладкой лихорадке, стараясь догадаться, что бы это могло быть.
И вот однажды исполнилась великая мечта – дядя купил мне настоящий двухколесный велосипед.
Приятно пахнущий резиной и свежей краской, легкий, нарядный, чем-то похожий на самого дядю, он стоял у него в комнате, молодцевато прислоненный к подоконнику.
Что это была за радость – трогать новенький руль, еще туго поворачивающийся, бесконечно звонить в звоночек на руле, понюхать кожаное седло, треугольную сумочку, висящую на раме и чем-то грозно похожую на кобуру пистолета, гладить клейкие шины, как живое тело, чувствуя ладонью их шершавую, рубчатую поверхность!
Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но, пожалуй, бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, делал финты и в конце концов так запутывался, что бил в двух шагах от ворот мимо или неожиданно с какой-то оскорбительной легкостью у него отбирали мяч. Партнер, который все это время прямо-таки вымаливал у него подачу, останавливался как вкопанный, как бы призывая весь стадион в свидетели. Судорожно вытянув руки, он показывал на то место, где стоял и откуда он якобы обязательно забил бы гол.
Нападающий делал вид, что только что его заметил, и, покаянно опустив голову, покрытую черными глянцевитыми волосами, удалялся к центру. Но как только ему попадал мяч, он мгновенно забывал свое покаяние, и все повторялось сначала. Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удавалось забить мяч! Овеваемый гулом обожания, не глядя ни на кого, ровной рысцой, как цирковая лошадка, он бежал к середине поля.
Про длинного, всегда невозмутимого защитника пацаны рассказывали легенды. Он был левша, но говорили, что правой ногой ему запретили бить после того, как он ударом мяча убил голкипера. Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника. Он и в самом деле сильно бил. Бывало, выбежит навстречу мячу и как саданет! А потом лениво возвращается на место, уверенный, что после его удара мяч не так-то скоро прилетит обратно.
Иногда мяч влетал на трибуну, и, когда кто-нибудь его оттуда выбивал, почему-то все начинали смеяться.
После первого тайма потные, усталые футболисты, тяжело передвигая могучие ноги, возвращались в раздевалку. Некоторые усаживались возле раздевалки на трибунах. К ним подходили знакомые, пожимали руки, разговаривали.
Если игра складывалась плохо, особенно желчные болельщики вступали с нашими футболистами в спор и даже иногда рвались в драку, но их тут же оттаскивали окружающие.
Иногда на трибунах усаживались и представители тбилисского «Динамо». Среди них почти всегда было два-три наших бывших игрока. К ним тоже подходили знакомые и разговаривали, с одной стороны, стараясь показать, что они близко знают знаменитых игроков, с другой стороны, независимым видом и сдержанностью показывая, что они не собираются подхалимничать перед ними.
Эту мирную, сдержанную беседу иногда прерывал какой-нибудь не в меру патриотичный болельщик. Подойдя близко к футболисту и беседующим с ним землякам, он враждебно прислушивался к тому, что они говорят, стараясь извлечь пищу для своего гнева из самого содержания их разговора. При этом он, не скрывая презрения, поглядывал на наших людей, которые не стыдятся разговаривать с человеком, покинувшим родную команду.
В конце концов он вмешивался в разговор и начинал спорить с ним, иногда совершенно не имея для этого никакого повода.
– А ты, продажный изменник, молчи! – в конце концов обращался он к бывшему нашему футболисту и уходил с видом человека, исполнившего свой гражданский долг. Иногда такого рода патриоты поступали несколько хитрее. Они нанимали за порцию мороженого какого-нибудь мальчика, чтобы тот крикнул бывшему нашему футболисту то же самое и убежал.
Обычно футболист после этого уходил в раздевалку, а те, что до этого с ним разговаривали, выражали неодобрение на эти оскорбительные выпады.
– Это тоже неправильно, – говорили они, – человек растет, ему надо выдвигаться!
– Мы не против, – говорили другие, – но, пока молодой, мог еще два-три года поиграть, отплатить добром своей команде, которая научила тебя играть…
– Пожалуйста, уходи! – вдруг вмешивался человек, как бы озаренный совершенно новым взглядом на эту старую проблему. – Но только при одном условии…
– Каком условии? – с большим любопытством начинали спрашивать остальные, придвигаясь к этому человеку и окружая его кольцом.
– В родном поле не играй! – с огромной силой произносил этот человек и оглядывал окружающих с некоторой патриотической агрессивностью.
– Тоже правильно! – соглашались окружающие, хотя и ясно было, что они ожидали чего-то более оригинального. Но сама эта патриотическая агрессивность, как бы вызванная непомерной любовью к своему городу, мешала им высказать свой взгляд на недостатки этого предложения.
Некоторые футболисты сразу же после перерыва подбегали к ларьку, прилепившемуся к ограде. Ларек одним окошечком открывался внутрь стадиона.
Жаркие, запрокинув голову, не отрывая бутылки ото рта, они пили, прислушиваясь к собственному удовольствию, высасывали маленький водоворот прохлады, словно трубили в трубу какую-то вкусную беззвучную мелодию утоления.
Обычно они брали сразу по две бутылки и, допивая одну, уже вторую держали наготове и даже слегка приподымали руку со второй бутылкой, как бы успокаивая свою жажду: мол, не бойся, еще есть.
Насмотревшись на футболистов, пьющих лимонад, я подходил к дощатой изгороди стадиона. Сколько томительных часов провел я здесь, только по ту сторону, когда дядя бывал в командировках, а мне не удавалось пройти зайцем!
В таких случаях вместе с остальными неудачниками мы следили за игрой, прильнув к щелям в заборе. Правда, лучшие щели всегда забирали ребята постарше нас, так что и среди неудачников не было равенства, но все же и на нас хватало.
Теперь я подходил к изгороди по-хозяйски изнутри. Десятки ребячьих глаз жадно глядели на меня. Многие из пацанов были мне знакомы. Я несколько покровительственно рассказывал им кое-какие подробности матча. Они завистливо слушали меня, иногда спрашивали:
– Как проканал?
– Я с дядей, – отвечал я.
– А-а, – вздыхали они.
Возле забора похаживал милиционер. Когда он отходил подальше или отворачивался, я давал им знак, они перелезали через забор и быстро ныряли в толпу. Я возвращался на место, испытывая двойную радость и от собственной добропорядочности, и оттого, что удалось провести милиционера.
Иногда мы с дядей приходили на стадион помыться в душевой. Это тоже было привилегией для своего человека. Дядя быстро раздевался, аккуратно складывал одежду и пускал воду. Я становился под крепкую толкающую струю, пыхтел и отфыркивался, делая вид, что смываю с себя грязь, хотя был уверен, что никакой грязи на мне нет. Дядя мылся с удовольствием. Его мускулистое тело все время двигалось, под мышкой трепыхалась смешная родинка, похожая на маленькую матрешку. Потом он обтирался скрипящим махровым полотенцем, подмигивал мне, посмеиваясь над моей неловкостью.
После купания тело делалось легким и сильным. Мы шли домой. Я вышагивал рядом с ним, с обожанием глядя на его лицо, на блестящие волосы, причесанные на косой пробор, на его улыбающийся рот. Я чувствовал, что моя персона сама по себе доставляет ему какое-то насмешливое удовольствие, и это почему-то радовало, окрыляло. Мы любили друг друга. Это было точно.
Между прочим, я не помню, чтобы он меня когда-нибудь целовал. Может быть, это бывало, но, видимо, так редко, что я не запомнил. В нашей огромной родне и вообще в кругу наших знакомых на детей, и в том числе на меня, обрушивалось неимоверное число поцелуев. Господи, как я ненавидел эти поцелуи! Жестко-небритые, винно-водочные, чмокающие, скребущие, сосущие. Особенно женские, противно пахнущие помадой, особенно же среди особенных поцелуи женщин с неудавшимися судьбами, я их сразу отличал по какой-то свойственной им тупиковой силе удара. От поцелуев было трудно увернуться, приходилось терпеть, чтобы не обидеть взрослых.
Дядя был высшим авторитетом не только у нас в семье, но и во дворе, многолюдном, многоязычном и по-южному шумном. Женщины нашего двора, постоянно переругивавшиеся, стараясь перекричать собственные примуса, смолкали, когда он входил во двор, прихорашивались, вспоминали, что они женщины.
Работал он экономистом в каком-то заготовительном учреждении, а тогда я думал, что он занят сказочной работой, смысл которой – делать людей умелыми, веселыми, легкими. В сущности, так оно и было.
По воскресеньям дядя выводил из дому велосипед, и мы ездили купаться на море.
Помню ослепительный день. Дядя в белоснежном костюме, какой-то особенно свежий, бодрый. Сверкают быстро мелькающие спицы, руль, звонок на руле, даже камни мостовой, по которой мы едем. Велосипед дребезжит, вибрирует на туго накачанных шинах. Сидеть на подпрыгивающей раме больно, ноги приходится неудобно подтягивать, чтобы не мешать дяде педалить. Он то и дело просит меня, чтобы я держал руль посвободней, но какой-то страх заставляет меня сжимать его изо всех сил.
Встречный ветер надувает рубаху, режет глаза, но я каждым нервом и мускулом впиваю счастье езды, нашей с ним дружбы, близости моря. Я замечаю, как встречные мужчины и женщины улыбаются нам, кивают дяде, некоторые успевают спросить:
– Сын?
– Племянник, – бросает дядя, и я чувствую в голосе его улыбку.
«Племянник», – повторял я про себя вкусное, веселое слово, похожее на пряник. Мне казалось, что именно этому сходству слов улыбается он.
Дядя в те времена, когда я его стал помнить, жил с матерью и сестрой в нашем доме. До этого он был женат и жил где-то в другом месте, но я этого времени не застал.
После работы в летнее время он обычно отдыхал в своей кровати под марлевым балдахином от комаров и мух.
Я часто приходил к нему в комнату, садился за письменный стол и листал книги или рисовал, валяясь на старой рогатой шкуре тура, распластанной перед кроватью. Под колониальным балдахином таинственно шелестели страницы Мопассана и Стефана Цвейга.
Приходя к нему, я каждый раз просил листик бумаги, чтобы изобразить очередную баталию с фашистами. Однажды он мне сказал, что у него не осталось ни одного листика.
– Ну, тогда дай веточку, – неизвестно зачем сказал я. Ответ ему так понравился, что он, смеясь, потом часто рассказывал об этом своим друзьям.
Дядя часто мне что-нибудь приносил с работы. Бывало, разденется, позовет меня и говорит, улыбаясь и заранее наслаждаясь моей радостью:
– А ну-ка, посмотри, что у меня там в кармане?
Я бегу к вешалке, роюсь в карманах, в сладкой лихорадке, стараясь догадаться, что бы это могло быть.
И вот однажды исполнилась великая мечта – дядя купил мне настоящий двухколесный велосипед.
Приятно пахнущий резиной и свежей краской, легкий, нарядный, чем-то похожий на самого дядю, он стоял у него в комнате, молодцевато прислоненный к подоконнику.
Что это была за радость – трогать новенький руль, еще туго поворачивающийся, бесконечно звонить в звоночек на руле, понюхать кожаное седло, треугольную сумочку, висящую на раме и чем-то грозно похожую на кобуру пистолета, гладить клейкие шины, как живое тело, чувствуя ладонью их шершавую, рубчатую поверхность!