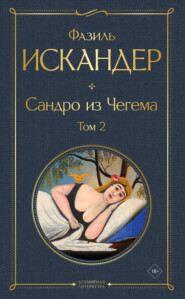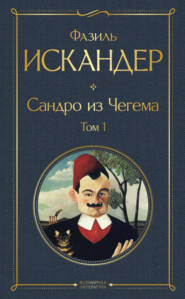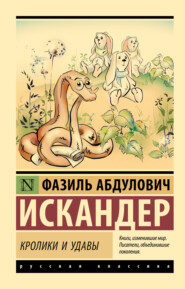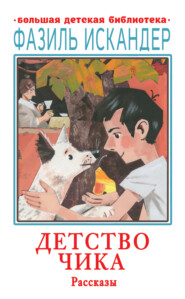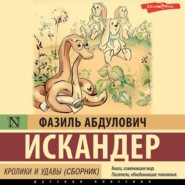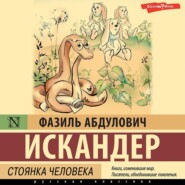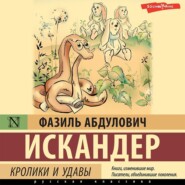По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сандро из Чегема
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но главное не это. Если спокойно обдумать и взвесить все причины, по которым собака лает в течение одного дня, то невольно приходишь к мысли: а в порядке ли вообще у нее мозги?
Если, допустим, собака лаяла в день сто раз, хотя они обычно лают гораздо больше, так вот, если разобрать причины, по которым она лаяла сто раз, то окажется – только в одном случае ей надо было в самом деле лаять. А в остальных случаях ей вообще надо было спокойно сидеть или спать. А теперь представьте мула, который сто раз пошел на мельницу, чтобы один раз принести мешки с мукой, и сразу станет ясно, чего стоит ум собаки. Я думаю, теперь этот вопрос всем ясен, и дальше об этом говорить было бы все равно, что подражать бессмысленному собачьему лаю.
Так вот, мой старик появился на склоне котловины Сабида, где я ел траву с другими лошадьми и ослами, и стал спускаться ко мне, громко крича:
– Арапка, Арапка!
Так он меня называет, хотя я не такой уж черный. Но я не обижаюсь, само по себе имя еще ни о чем не говорит. Между прочим, своего осла он тоже называет Арапкой. Но одно дело Арапка я – мул, и другое дело Арапка он – осел. Одно и то же имя, а звучит совсем по-разному.
Так вот, значит, мой старик приближался ко мне, громко зовя меня по имени, чтобы я обратил на него внимание. Но я сначала сделал вид, что не слышу его. Я всегда сначала так делаю, потому что раз уж он меня ищет, все равно мимо не пройдет.
Наконец я поднял голову и посмотрел на него. В одной руке он держал горсть соли, чтобы приманить меня, а в другой уздечку. Я понял, что предстоит дальняя дорога. Я это понял по тому, что его лицо было очищено от щетины. Всегда, когда предстоит дальняя дорога, он очищает свое лицо от щетины таким острым особым ножичком. Когда надо поехать в сельсовет, или на мельницу, или куда-нибудь к близким соседям, он лицо свое не очищает от щетины. А когда предстоит дорога в другое село или в город, он всегда очищает лицо. Так я понял, что предстоит дальняя дорога.
Мой старик осторожно подошел ко мне, словно я могу от него убежать куда-нибудь. Да куда я от тебя убегу, чудак. Не убегу я от тебя никуда, потому что ты мой хозяин, и я не хочу иметь никакого другого хозяина.
Он подошел ко мне, и я, подняв голову, но и не проявляя излишней жадности, ждал, когда он протянет мне ладонь с горстью крупной соли. И он протянул мне ладонь, и я выбрал оттуда вкуснейшую в мире соль, и, когда все прожевал и проглотил, он сунул мне в рот удила, перекинул уздечку над холкой и влез мне на спину.
Мы пошли к дому. Я в последний раз оглянулся на жеребенка, и, когда мы тронулись, он поднял голову и посмотрел мне вслед. О, если б я почувствовал в его глазах сожаление, что я покидаю его. Но нет, милый длинный рыжик равнодушно опустил голову и стал спокойно щипать траву. Неблагодарный, я же тебя спас от смерти, я же готов за тебя жизнь отдать, а ты ничего этого не понимаешь. Но кто его знает, может, он все-таки любит меня и только внешне не может это показать. Ведь разрешил он мне дважды подходить к нему и положить голову на гривку его трепещущей шеи. Что это были за сладчайшие минуты! Я шеей чувствовал, как под нежной шкуркой его шеи струится теплая кровь. Эта теплота передавалась моему телу, и я ощущал, как по нему растекается неслыханное блаженство. Правда, все это длилось не очень долго. Глупышка внезапно прервал то, что я считал нашим общим блаженством, и, фыркнув, отбежал от меня.
А второй раз, когда мы так стояли, он не прерывал блаженство, я думаю, все-таки почувствовал сладость нашей близости, но тут подошла его мать и отогнала меня. Я не стал сопротивляться, чтобы не обижать жеребенка, а то бы мог ее так укусить, что она взвыла бы на всю котловину Сабида. Взревновала, старая дура! Если ты так любишь своего жеребенка, почему ты оставила его позади и первая удирала от волков!
Мы подошли к дому моего старика. Он, наклонившись, толкнул калитку, и мы вошли во двор. Возле кухни мой старик спешился, вытащил удила из моего рта и привязал меня к перилам веранды. Я стал сильно волноваться. Дело в том, что обычно перед большой дорогой мне выносят в тазу кукурузные початки, чтобы я подкрепился.
Но иногда не выносят, потому что просто забывают. И именно это ужасно обидно. Если бы они не выносили початки, потому что им жалко, было бы не так обидно. Но оттого, что они просто иногда забывают это сделать, бывает очень обидно.
Мой старик зашел в кухню и стал разговаривать со своей старухой. Из их разговора я понял, что мы идем к его сыну в город, где тот сейчас живет. Этот сын его, Сандро, живет в городе и зарабатывает на пропитание танцами. В жизни не слыхал, чтобы за танцы человека кормили, поили и держали бы его под крышей. Никак этого понять не могу. Так каждому захочется танцевать, и тогда кто же будет пахать, сеять, собирать урожай?
Из разговоров моего старика со старухой я понял, что Сандро собирается покупать дом, но хочет, прежде чем купить его, посоветоваться со своим отцом. Вот старик и собрался в город. Старуха все время уговаривала моего старика склонить своего сына вернуться в Чегем, потому что в городе сейчас страшные дела происходят.
Я об этом слыхал много раз: и когда был привязан возле сельсовета, и когда мы ездили на поминки в соседнее село, и на мельнице об этом же говорили, и я все расслышал, несмотря на шум мельничного жернова.
Там, в городе, одни люди хватают других людей и отправляют в холодный край, название которого я забыл. А иногда просто убивают. А за что – никто не знает. Вроде бы думают, что они колодцы отравляют. Но что-то мне не верится. Мы со своим стариком много раз бывали в дальних дорогах и по пути нередко пили из колодцев и ни разу не отравились.
Я одного не пойму, почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут. Да что они, стреножены, что ли? Раз такое дело – бегите в горы, в леса, кто вас там отыщет?! Я и то в свое время сбежал от злого хозяина и пришел к своему старику. И ничего – обошлось.
Так вот, значит, старуха стала нудить моего старика, чтобы он уговорил сына вернуться в Чегем, а старик стал уверять, что такой бездельник, как Сандро, никогда не захочет менять свою дармовую городскую жизнь на сельскую. Тут они сильно повздорили, и я затосковал, решив, что теперь-то, конечно, забудут дать мне кукурузу.
Ай да мой старик, и тут про меня не забыл. Старуха, продолжая ругаться, что через него может погибнуть ее сын, вынесла мне целый тазик кукурузных початков. Штук десять, не меньше. Я стал отгрызать от кочерыжек вкусные, золотистые зерна. Тут, как всегда, куры и петухи приблизились ко мне, ожидая, когда от початков будут отскакивать отдельные зерна. Я, конечно, старался так аккуратно отгрызать зерна, чтобы от початков ничего не отскакивало. Да разве за всем уследишь. Все равно зерна иногда нет-нет и отскочат в сторону, и эти пустоголовые куры и петухи тут же склевывали их.
Я поел всю кукурузу, так что одни голые кочерыжки остались в тазу, а старик мой тоже поел и, выйдя на веранду, вымыл руки и рот. Он почему-то после еды всегда полоскает рот, чтобы отмыть его от остатков пищи. Странная привычка. Мне, наоборот, приятно, когда после вкусной еды во рту остаются кусочки пищи, тогда дольше помнишь ее приятность. Но мой старик всегда так делает. Видно, ему нравится забывать то, что он ел. А мне, наоборот, нравится помнить то, что я ел. Например, как сейчас кукурузу.
Вымыв руки и сполоснув рот, мой старик оседлал меня. Когда он начал натягивать подпруги, я, как всегда, раздул живот, а он, как всегда, ткнул меня кулаком, чтобы я выпустил воздух, а он как следует затянул подпруги. И что интересно – ни я никогда не забываю раздуть живот, ни он никогда не забывает ткнуть меня кулаком. Я все жду, забудет ли он когда-нибудь, что я раздул живот, но пока что не получается. Он все замечает.
Оседлав меня, мой старик в последний раз оглядел двор, чтобы убедиться, все ли на местах, не надо ли чего подправить или дать какой-нибудь наказ домашним. Убедившись, что здесь все как надо, он посмотрел на взгорье, где стоял дом его сына охотника Исы. Оглядев дом Исы и его двор и не найдя там никаких признаков бесхозяйственности, он посмотрел вниз, где недалеко от родника стоит дом его сына пастуха Махаза. И тут он обнаружил непорядок.
Дело в том, что мой старик терпеть не может, когда в его собственном доме или в домах его сыновей закрыта кухонная дверь. Он считает, что по абхазским обычаям, если хозяева – дома, дверь кухни должна быть целый день распахнута.
Распахнутая дверь кухни означает, что хозяева всегда готовы принять мимоезжего всадника или прохожего, если ему захотелось напиться или поесть. А закрытая дверь кухни, особенно если над крышей подымается дым, означает, что тут живут скупые хозяева, которые боятся случайного гостя.
И вот старик мой, если он находится дома, без устали подслеживает за кухнями своих сыновей, чтобы они были все время распахнуты, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал, что у него негостеприимные сыновья.
Но мало ли чего не бывает. То ли хозяйка за водой пошла, то ли на огород за зеленью или прополоть овощи, так она прикрывает дверь на кухню, чтобы туда куры или собаки не вошли. А мой старик, как увидит закрытую кухонную дверь, так и начинает кричать.
И сейчас он заметил, что у Маши, жены его сына Махаза, дверь на кухню закрыта.
– Эй, вы, там у Маши, – закричал он вниз, – от кого это вы заперлись на кухне!
– Мама купается, дедушка, – закричала в ответ одна из дочерей тети Маши, – потому она закрылась!
– Чтоб ее водяной употребил, – пробормотал мой старик, – слыхано ль, чтобы женщина целыми днями плескалась.
Нет, конечно, Маша не имеет привычки целыми днями купаться. Просто старик терпеть не может, чтобы дверь какой-нибудь кухни была закрыта.
Наконец он взгромоздился на меня, и мы пошли.
– Верни моего сына! – крикнула ему вслед старуха.
– Чтоб язык твой отсох, – бормотнул мой старик и, наклонившись, открыл калитку, и мы вышли со двора.
Перед крутым склоном, выходящим к реке Кодор, мой старик остановил меня у дома своего дружка. Тот мотыжил кукурузу на своем приусадебном участке. Звали его Даур. Этот Даур оказался еще упрямей моего старика. На весь Чегем он единственный, кто еще не вступил в колхоз. Мой старик ревниво к нему приглядывается, все не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз или лучше бы держался, как этот Даур.
– Хороших тебе трудов! – крикнул мой старик.
– Добро тебе, Хабуг, – ответил Даур и, бросив мотыгу, пошел в нашу сторону. Он перелез через плетень и, подойдя к нам, поздоровался с моим стариком за руку.
– Спешься, выпьем по рюмке, – сказал Даур.
– Нет, нет, – ответил мой старик, – я так, мимоездом.
– Куда путь держишь? – спросил Даур.
– К сыну в город еду, – ответил мой старик.
– Все на своем муле, – вдруг сказал Даур, – я уж думал, тебя на лошадь пересадят, раз уж ты кумхозником стал.
И далась им эта лошадь. Вот люди, кто ни встретит, удивляются, почему мой старик ездит на мне, а не на лошади. Никак, болваны, не поймут, что потому-то он на мне и ездит, что я удобней и приятней лошади во всех отношениях.
– Я уж так на своем муле до смерти проезжу, – сказал мой старик и, вздохнув, добавил: – А кумхоз, что поделаешь, время заставило.
– Да, время, – вздохнул Даур в ответ.
– Ну, а что тебя, не теребят? – спросил мой старик.
– Опять вызывали в сельсовет, – сказал Даур, – сдается – новый налог придумали.
– Нет уж, от тебя не отстанут, – сказал мой старик.
– Эй, ты! – крикнул Даур в сторону дома. – Вынеси нам чего-нибудь горло промочить!
Если, допустим, собака лаяла в день сто раз, хотя они обычно лают гораздо больше, так вот, если разобрать причины, по которым она лаяла сто раз, то окажется – только в одном случае ей надо было в самом деле лаять. А в остальных случаях ей вообще надо было спокойно сидеть или спать. А теперь представьте мула, который сто раз пошел на мельницу, чтобы один раз принести мешки с мукой, и сразу станет ясно, чего стоит ум собаки. Я думаю, теперь этот вопрос всем ясен, и дальше об этом говорить было бы все равно, что подражать бессмысленному собачьему лаю.
Так вот, мой старик появился на склоне котловины Сабида, где я ел траву с другими лошадьми и ослами, и стал спускаться ко мне, громко крича:
– Арапка, Арапка!
Так он меня называет, хотя я не такой уж черный. Но я не обижаюсь, само по себе имя еще ни о чем не говорит. Между прочим, своего осла он тоже называет Арапкой. Но одно дело Арапка я – мул, и другое дело Арапка он – осел. Одно и то же имя, а звучит совсем по-разному.
Так вот, значит, мой старик приближался ко мне, громко зовя меня по имени, чтобы я обратил на него внимание. Но я сначала сделал вид, что не слышу его. Я всегда сначала так делаю, потому что раз уж он меня ищет, все равно мимо не пройдет.
Наконец я поднял голову и посмотрел на него. В одной руке он держал горсть соли, чтобы приманить меня, а в другой уздечку. Я понял, что предстоит дальняя дорога. Я это понял по тому, что его лицо было очищено от щетины. Всегда, когда предстоит дальняя дорога, он очищает свое лицо от щетины таким острым особым ножичком. Когда надо поехать в сельсовет, или на мельницу, или куда-нибудь к близким соседям, он лицо свое не очищает от щетины. А когда предстоит дорога в другое село или в город, он всегда очищает лицо. Так я понял, что предстоит дальняя дорога.
Мой старик осторожно подошел ко мне, словно я могу от него убежать куда-нибудь. Да куда я от тебя убегу, чудак. Не убегу я от тебя никуда, потому что ты мой хозяин, и я не хочу иметь никакого другого хозяина.
Он подошел ко мне, и я, подняв голову, но и не проявляя излишней жадности, ждал, когда он протянет мне ладонь с горстью крупной соли. И он протянул мне ладонь, и я выбрал оттуда вкуснейшую в мире соль, и, когда все прожевал и проглотил, он сунул мне в рот удила, перекинул уздечку над холкой и влез мне на спину.
Мы пошли к дому. Я в последний раз оглянулся на жеребенка, и, когда мы тронулись, он поднял голову и посмотрел мне вслед. О, если б я почувствовал в его глазах сожаление, что я покидаю его. Но нет, милый длинный рыжик равнодушно опустил голову и стал спокойно щипать траву. Неблагодарный, я же тебя спас от смерти, я же готов за тебя жизнь отдать, а ты ничего этого не понимаешь. Но кто его знает, может, он все-таки любит меня и только внешне не может это показать. Ведь разрешил он мне дважды подходить к нему и положить голову на гривку его трепещущей шеи. Что это были за сладчайшие минуты! Я шеей чувствовал, как под нежной шкуркой его шеи струится теплая кровь. Эта теплота передавалась моему телу, и я ощущал, как по нему растекается неслыханное блаженство. Правда, все это длилось не очень долго. Глупышка внезапно прервал то, что я считал нашим общим блаженством, и, фыркнув, отбежал от меня.
А второй раз, когда мы так стояли, он не прерывал блаженство, я думаю, все-таки почувствовал сладость нашей близости, но тут подошла его мать и отогнала меня. Я не стал сопротивляться, чтобы не обижать жеребенка, а то бы мог ее так укусить, что она взвыла бы на всю котловину Сабида. Взревновала, старая дура! Если ты так любишь своего жеребенка, почему ты оставила его позади и первая удирала от волков!
Мы подошли к дому моего старика. Он, наклонившись, толкнул калитку, и мы вошли во двор. Возле кухни мой старик спешился, вытащил удила из моего рта и привязал меня к перилам веранды. Я стал сильно волноваться. Дело в том, что обычно перед большой дорогой мне выносят в тазу кукурузные початки, чтобы я подкрепился.
Но иногда не выносят, потому что просто забывают. И именно это ужасно обидно. Если бы они не выносили початки, потому что им жалко, было бы не так обидно. Но оттого, что они просто иногда забывают это сделать, бывает очень обидно.
Мой старик зашел в кухню и стал разговаривать со своей старухой. Из их разговора я понял, что мы идем к его сыну в город, где тот сейчас живет. Этот сын его, Сандро, живет в городе и зарабатывает на пропитание танцами. В жизни не слыхал, чтобы за танцы человека кормили, поили и держали бы его под крышей. Никак этого понять не могу. Так каждому захочется танцевать, и тогда кто же будет пахать, сеять, собирать урожай?
Из разговоров моего старика со старухой я понял, что Сандро собирается покупать дом, но хочет, прежде чем купить его, посоветоваться со своим отцом. Вот старик и собрался в город. Старуха все время уговаривала моего старика склонить своего сына вернуться в Чегем, потому что в городе сейчас страшные дела происходят.
Я об этом слыхал много раз: и когда был привязан возле сельсовета, и когда мы ездили на поминки в соседнее село, и на мельнице об этом же говорили, и я все расслышал, несмотря на шум мельничного жернова.
Там, в городе, одни люди хватают других людей и отправляют в холодный край, название которого я забыл. А иногда просто убивают. А за что – никто не знает. Вроде бы думают, что они колодцы отравляют. Но что-то мне не верится. Мы со своим стариком много раз бывали в дальних дорогах и по пути нередко пили из колодцев и ни разу не отравились.
Я одного не пойму, почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут. Да что они, стреножены, что ли? Раз такое дело – бегите в горы, в леса, кто вас там отыщет?! Я и то в свое время сбежал от злого хозяина и пришел к своему старику. И ничего – обошлось.
Так вот, значит, старуха стала нудить моего старика, чтобы он уговорил сына вернуться в Чегем, а старик стал уверять, что такой бездельник, как Сандро, никогда не захочет менять свою дармовую городскую жизнь на сельскую. Тут они сильно повздорили, и я затосковал, решив, что теперь-то, конечно, забудут дать мне кукурузу.
Ай да мой старик, и тут про меня не забыл. Старуха, продолжая ругаться, что через него может погибнуть ее сын, вынесла мне целый тазик кукурузных початков. Штук десять, не меньше. Я стал отгрызать от кочерыжек вкусные, золотистые зерна. Тут, как всегда, куры и петухи приблизились ко мне, ожидая, когда от початков будут отскакивать отдельные зерна. Я, конечно, старался так аккуратно отгрызать зерна, чтобы от початков ничего не отскакивало. Да разве за всем уследишь. Все равно зерна иногда нет-нет и отскочат в сторону, и эти пустоголовые куры и петухи тут же склевывали их.
Я поел всю кукурузу, так что одни голые кочерыжки остались в тазу, а старик мой тоже поел и, выйдя на веранду, вымыл руки и рот. Он почему-то после еды всегда полоскает рот, чтобы отмыть его от остатков пищи. Странная привычка. Мне, наоборот, приятно, когда после вкусной еды во рту остаются кусочки пищи, тогда дольше помнишь ее приятность. Но мой старик всегда так делает. Видно, ему нравится забывать то, что он ел. А мне, наоборот, нравится помнить то, что я ел. Например, как сейчас кукурузу.
Вымыв руки и сполоснув рот, мой старик оседлал меня. Когда он начал натягивать подпруги, я, как всегда, раздул живот, а он, как всегда, ткнул меня кулаком, чтобы я выпустил воздух, а он как следует затянул подпруги. И что интересно – ни я никогда не забываю раздуть живот, ни он никогда не забывает ткнуть меня кулаком. Я все жду, забудет ли он когда-нибудь, что я раздул живот, но пока что не получается. Он все замечает.
Оседлав меня, мой старик в последний раз оглядел двор, чтобы убедиться, все ли на местах, не надо ли чего подправить или дать какой-нибудь наказ домашним. Убедившись, что здесь все как надо, он посмотрел на взгорье, где стоял дом его сына охотника Исы. Оглядев дом Исы и его двор и не найдя там никаких признаков бесхозяйственности, он посмотрел вниз, где недалеко от родника стоит дом его сына пастуха Махаза. И тут он обнаружил непорядок.
Дело в том, что мой старик терпеть не может, когда в его собственном доме или в домах его сыновей закрыта кухонная дверь. Он считает, что по абхазским обычаям, если хозяева – дома, дверь кухни должна быть целый день распахнута.
Распахнутая дверь кухни означает, что хозяева всегда готовы принять мимоезжего всадника или прохожего, если ему захотелось напиться или поесть. А закрытая дверь кухни, особенно если над крышей подымается дым, означает, что тут живут скупые хозяева, которые боятся случайного гостя.
И вот старик мой, если он находится дома, без устали подслеживает за кухнями своих сыновей, чтобы они были все время распахнуты, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал, что у него негостеприимные сыновья.
Но мало ли чего не бывает. То ли хозяйка за водой пошла, то ли на огород за зеленью или прополоть овощи, так она прикрывает дверь на кухню, чтобы туда куры или собаки не вошли. А мой старик, как увидит закрытую кухонную дверь, так и начинает кричать.
И сейчас он заметил, что у Маши, жены его сына Махаза, дверь на кухню закрыта.
– Эй, вы, там у Маши, – закричал он вниз, – от кого это вы заперлись на кухне!
– Мама купается, дедушка, – закричала в ответ одна из дочерей тети Маши, – потому она закрылась!
– Чтоб ее водяной употребил, – пробормотал мой старик, – слыхано ль, чтобы женщина целыми днями плескалась.
Нет, конечно, Маша не имеет привычки целыми днями купаться. Просто старик терпеть не может, чтобы дверь какой-нибудь кухни была закрыта.
Наконец он взгромоздился на меня, и мы пошли.
– Верни моего сына! – крикнула ему вслед старуха.
– Чтоб язык твой отсох, – бормотнул мой старик и, наклонившись, открыл калитку, и мы вышли со двора.
Перед крутым склоном, выходящим к реке Кодор, мой старик остановил меня у дома своего дружка. Тот мотыжил кукурузу на своем приусадебном участке. Звали его Даур. Этот Даур оказался еще упрямей моего старика. На весь Чегем он единственный, кто еще не вступил в колхоз. Мой старик ревниво к нему приглядывается, все не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз или лучше бы держался, как этот Даур.
– Хороших тебе трудов! – крикнул мой старик.
– Добро тебе, Хабуг, – ответил Даур и, бросив мотыгу, пошел в нашу сторону. Он перелез через плетень и, подойдя к нам, поздоровался с моим стариком за руку.
– Спешься, выпьем по рюмке, – сказал Даур.
– Нет, нет, – ответил мой старик, – я так, мимоездом.
– Куда путь держишь? – спросил Даур.
– К сыну в город еду, – ответил мой старик.
– Все на своем муле, – вдруг сказал Даур, – я уж думал, тебя на лошадь пересадят, раз уж ты кумхозником стал.
И далась им эта лошадь. Вот люди, кто ни встретит, удивляются, почему мой старик ездит на мне, а не на лошади. Никак, болваны, не поймут, что потому-то он на мне и ездит, что я удобней и приятней лошади во всех отношениях.
– Я уж так на своем муле до смерти проезжу, – сказал мой старик и, вздохнув, добавил: – А кумхоз, что поделаешь, время заставило.
– Да, время, – вздохнул Даур в ответ.
– Ну, а что тебя, не теребят? – спросил мой старик.
– Опять вызывали в сельсовет, – сказал Даур, – сдается – новый налог придумали.
– Нет уж, от тебя не отстанут, – сказал мой старик.
– Эй, ты! – крикнул Даур в сторону дома. – Вынеси нам чего-нибудь горло промочить!