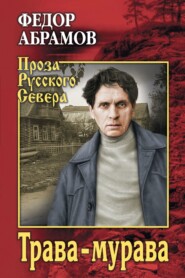По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг да около (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Красавец. Образованный. И умен как бес – через стену все видит.
Пелагея не поскупилась – две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно – через помощников ведут двери к начальнику.
В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула, – никто не видал.
А вот какой у него глаз – увидел.
Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:
– А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.
Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь – в другой раз не сунешься.
Пелагея быстро захмелела. Не от вина – две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.
Превыше всех благ на свете ценила она умное слово.
Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.
Но рядом с этим быстроглазым шельмой – так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) – и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть – заслушаешься.
К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?
А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет – по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется мамашей называть.
Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и кадила, как могла.
Но Алька… Что с Алькой? Она-то о чем думает?
Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал – это дается с годами, да и то не каждому, – да ведь девушка, не только речами берет. А глаз? А губы на что?
Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно – в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи возится! Или, может, нищие они?
Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки – глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растелишься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.
Не послушалась. Уперлась, как петух. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.
Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик – и минуты не прошло – сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком – только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца…
И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.
И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь.
Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.
* * *
Пелагея за этот месяц помолодела и душой, и телом.
Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.
Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целовалась с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу, как овечушка, отдался ей в руки.
А этот вихрь, огонь – того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме – тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша…» – на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.
Конечно, Альке спешить некуда – другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом – ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?
В общем, думала-думала Пелагея и надумала – созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.
Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича – там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.
Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит – деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать?
Две-три буханки лишних скормить борову – вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.
Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо – это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.
А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю – та, бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.
О другой ягоде – малине – Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году – по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую – сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.
Она быстро надоила эмалированное ведро, потом – раззадорилась – загнула коробку из бересты, да еще и коробку набрала.
Домой притащилась еле-еле – дорога семь верст, ноша в три погибели гнет, и за весь день сухарик в ручье размочила.
– Отец, Онисья! – заговорила она с порога, через силу улыбаясь. – Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите…
Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица.
Неужели опять приступ?
Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.
– Где Алька? За фершалом побежала?
Анисья опять ничего не ответила.
– Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?
– Нету Альки…
– Н-не-ту-у? – у Пелагеи ноги подкосились – едва мимо стула не села.
Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей – чужому, незнакомому человеку машет.
– С тем, пройдохой, уехала? – спросила глухо Пелагея.
– Одна.
Пелагея не поскупилась – две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно – через помощников ведут двери к начальнику.
В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула, – никто не видал.
А вот какой у него глаз – увидел.
Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:
– А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.
Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь – в другой раз не сунешься.
Пелагея быстро захмелела. Не от вина – две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.
Превыше всех благ на свете ценила она умное слово.
Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.
Но рядом с этим быстроглазым шельмой – так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) – и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть – заслушаешься.
К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?
А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет – по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется мамашей называть.
Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и кадила, как могла.
Но Алька… Что с Алькой? Она-то о чем думает?
Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал – это дается с годами, да и то не каждому, – да ведь девушка, не только речами берет. А глаз? А губы на что?
Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно – в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи возится! Или, может, нищие они?
Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки – глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растелишься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.
Не послушалась. Уперлась, как петух. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.
Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик – и минуты не прошло – сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком – только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца…
И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.
И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь.
Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.
* * *
Пелагея за этот месяц помолодела и душой, и телом.
Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.
Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целовалась с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу, как овечушка, отдался ей в руки.
А этот вихрь, огонь – того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме – тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша…» – на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.
Конечно, Альке спешить некуда – другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом – ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?
В общем, думала-думала Пелагея и надумала – созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.
Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича – там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.
Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит – деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать?
Две-три буханки лишних скормить борову – вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.
Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо – это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.
А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю – та, бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.
О другой ягоде – малине – Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году – по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую – сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.
Она быстро надоила эмалированное ведро, потом – раззадорилась – загнула коробку из бересты, да еще и коробку набрала.
Домой притащилась еле-еле – дорога семь верст, ноша в три погибели гнет, и за весь день сухарик в ручье размочила.
– Отец, Онисья! – заговорила она с порога, через силу улыбаясь. – Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите…
Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица.
Неужели опять приступ?
Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.
– Где Алька? За фершалом побежала?
Анисья опять ничего не ответила.
– Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?
– Нету Альки…
– Н-не-ту-у? – у Пелагеи ноги подкосились – едва мимо стула не села.
Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей – чужому, незнакомому человеку машет.
– С тем, пройдохой, уехала? – спросила глухо Пелагея.
– Одна.