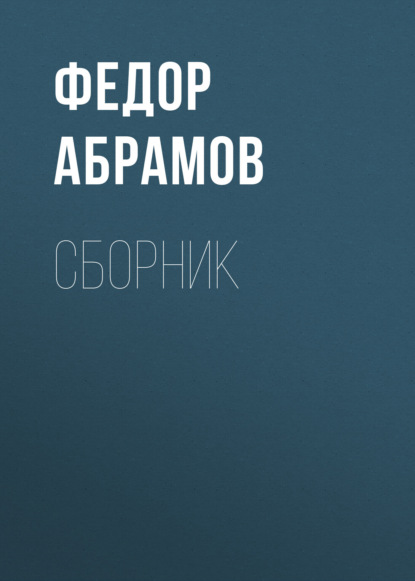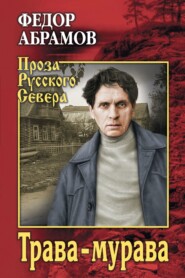По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ф. А. Абрамов. Сборник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как это хватит?
Лукашин ощетинился:
– Хватит, говорю, с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо!
– Так… – сухо заметил Новожилов. – У тебя, видно, пожар еще в голове шумит.
Лукашину показалось это намеком. Он разом побагровел:
– Ну знаешь… У меня не пожар, а совесть шумит! Не как у некоторых. Сидят – пороху не нюхали…
– Это кто же пороху не нюхал? – тихо, сдерживая себя, спросил Новожилов. – Договаривай.
Лукашин резко повернулся к нему.
– А думаешь, не договорю? – Он недобрым взглядом смерил тучную фигуру Новожилова.
Новожилов тяжело навалился на стол, задышал, как запаленная лошадь. Одутловатое лицо его посинело. Затем он резко поднялся на ноги и, не спуская с Лукашина темных разъяренных глаз, хрипло выкрикнул:
– Сукин сын! Жиру моему позавидовал? Да я с двадцатого пулю под сердцем ношу – ты об этом знаешь? Тыл… Да разве не видишь, как живем? Люди на износ работают. Насмерть! А кто? Те самые бабы да ребятишки, которых вы на фронте защищаете. Понял?
Лукашин протестующие поднял руку.
– Нет, ты погоди, послушай. Залезь хоть на минутку в мою шкуру. Приедешь в колхоз – дети голодные, бабы высохли от недоедания да от тяжести. А ты выгребаешь дочиста. Фронт требует. У ней ни черта ни и избе, ни на себе, а ты ей про военный заем… Давай, давай!.. Один раз вот агитирую так. А какая-то баба сбоку шепчет другой. Вишь, говорит, шейку наел. Наши мужики, говорит, кровь проливают, а этот всю войну языком воевать будет. Каково? А что ты сделаешь? Арестуешь? Оправдываться станешь: не зря, мол, хлеб ем! Да я перед этой бабой, если хочешь знать, на колени готов стать. Я бы ей при жизни памятник поставил. Ну-ка! Сколько человек в Пекашине на войну взято? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сеноуборка к концу? Да ведь это понимаешь что? Ну как, если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили… Ты вот на фронте оборону строил, а мы тут знаешь что делали? Людей ковали! Да, да! Председателей колхозов нет, бригадиров нет. А районом управлять надо? Понимаешь – все заново! Я иной раз задумаюсь, как это наша баба из пристяжной коренником стала? Помнишь, у Ленина: каждая хозяйка должна управлять государством…
– Кухарка, – поправил Лукашин.
– Ну кухарка. Так в этом все дело. Слова-то эти я запомнил давно, а вот понял их как следует только теперь. Бывало, как под начало бабе попадешь, нос воротишь. А представляешь, что бы сейчас было, если бы мы эту самую бабу двадцать лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер.
Наступило молчание.
Новожилов тяжело, с высвистом дыша, вытирал платком градом выступивший на лбу пот. Лукашин сидел не двигаясь, упрямо стиснув зубы. Ни тот, ни другой не мог заговорить первым.
Звонок телефона все поставил на свое место. К Новожилову тотчас вернулась обычная уверенность, и, берясь за трубку, он сказал Лукашину уже твердо и по-хозяйски:
– Ну вот что. Погорячились – и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом. И, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом.
…Он смутно помнил, как вышел из райкома, шагал по лесной дороге… Оглянулся – кругом толстые, незнакомые сосны. Где он, куда забрел? Нет, возвращаться не стоит. Должна же куда-то вывести эта глухая, затравеневшая тропинка. Вскоре впереди замелькали просветы, потянуло свежестью. Он вышел на вырубку, ощетинившуюся молодым сосняком.
Возле штабеля старого леса он сел и снова задумался.
Да, пора во всем разобраться. Так больше нельзя. И эта неврастеническая выходка в райкоме, и эти постоянные укоры совести – будто ты виноват перед всеми бабами, перед детишками. И откуда это? Почему? Разве он бездельничает? Ношу не по себе несет? Да, да, в этом все дело. Слишком уж легко ему живется… – Признайся честно, сколько раз ты был голоден за последние недели? Ни разу. Тебя щадят, за тобой ухаживают. В одном колхозе – хлеб, в другом масло, в райцентр приедешь – чай, сахар. А эти бабы, которых ты агитируешь? Многие ли из них хоть раз наелись досыта за все лето? А дети? У кого из них побывал кусок сахару во рту? Нет, коммунист тот, кто может сказать: я умирал столько, сколько и вы, и даже больше; мое брюхо кричало от голода так же, как ваше; вы ходили босые, оборванные – и я. Всю чашу горя и страданий испил я с вами – во всем и до конца!
И сейчас ему с особой горечью припомнилось все то, что было накануне. Как? В те самые минуты, когда обгорелая девушка в бреду, беспамятстве боролась со смертью, когда мать ее захлебывалась слезами, он… Сукин сын! Он всю ночь грезил Анфисой, своей любовью. А утром, как мальчишка, бежал на свидание. Нет, тысячу раз была права Анфиса, встретив его холодным, негодующим взглядом. Пора кончать с этим. И не прав, черт побери, Новожилов: его место на фронте!
Глава тридцать шестая
Босые Мишкины ноги у самой воды. Сгорбившись над удилищем, он с остервенением отбивается от вечерней мошки, зло встряхивает сонный поплавок. Не клюет… А на душе у Мишки так муторно, так тоскливо – хоть топись. И надо же было лезть за этой проклятущей птицей. Из-за него и Настя обгорела. Факт, из-за него. Не полез бы на сосну, и ничего бы не было…
С увала[27 - Увал – крутой склон, крутой берег.] посыпались комки глины – кто-то спускается к реке.
– Клев на уду.
Мишка, не оборачиваясь, по голосу узнал Дунярку. Этого еще не хватало! Скрипит корзина… А черт с ней, пускай полощет – все равно не клюет.
Рядом с удилищем в парной воде закачалась и поплыла на реку длинная тень. Хлопнула корзина по дресве[28 - Дресва – мелкая-мелкая галька.]. Нет, это уж слишком!
– Чего встала? Места мало? Проваливай!
Молчание.
– Ну? – угрожающе повернул он голову.
Сверху на него смотрели кроткие, испуганные глаза. Завсегда вот так… Прикинется овечкой, лисой подкатит, а потом на смех поднимет. У, как он ненавидел эту притворщицу! Ну ничего, он сейчас за все рассчитается!
– И чего ты злишься? Все лето не разговариваешь…
Он всего ожидал, но только не этих плаксивых речей. Злясь на свою беспомощность, Мишка устало махнул рукой:
– Катись, тут без тебя тошно.
– Ты это все из-за пожара, да? – Дунярка дотронулась до его плеча рукой.
Мишка тяжело вздохнул.
– Не надо, Миша, слышишь? Что уж – так вышло… Ты не виноват.
Ласковый голос Дунярки теплом обволакивает исстрадавшуюся Мишкину душу.
– А кто же виноват? – спросил он, помедлив.
– Кто? Ты ведь не нарочно, ты же не хотел. На войне еще не то бывает.
– Так то на войне…
– Сейчас везде война, – убежденно сказала Дунярка.
– Ты это правду так думаешь?
– Ну да, правду.
– Нет, ты не шутейно?
– Вот чудак, – улыбнулась Дунярка. – Ну честное комсомольское.
Мишка впервые за последние три дня почувствовал облегчение.
– Понимаешь, Дунярка, – заговорил он сбивчиво и торопливо. – Я ведь вовсе не хотел… Кружит эта птица, а тут бабы: «Мишка, смотри, Мишка, смотри». Ну я и полез… Да кабы я знал… Да разве бы я… – Он был так признателен, что с языка его сами собой сорвались слова: – А я на тебя вовсе и не сержусь. Хоть тут рядом полощи. Мне-то что…