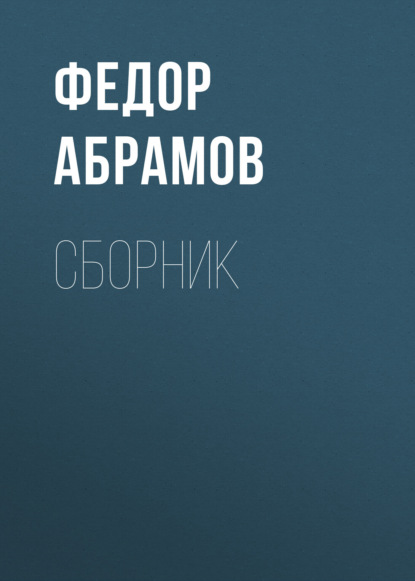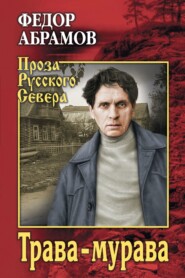По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ф. А. Абрамов. Сборник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В семье не без урода. Кто же говорит, что у нас все ангелы и собственническая психология изжита? Не в этом суть сейчас…
– Нет, ты погоди, погоди, – остановил Лукашин Новожилова. – Тут не так просто. Собственническая психология, она тоже разная бывает. Степана Андреяновича в Пекашине знаешь? Ставрова? Ну, у которого сына на войне убили… Сани, телегу сдал?
– Как же, как же! Первая опора Мининой…
– Теперь смотри, что сделал этот Степан Андреянович. Сани, сбрую, телегу все приготовил. Тоже собственник. Только он все это делал втихаря, в своей норе, тайком от людей. Да своими руками – вот что главное. А Федор Капитонович? Этот совсем по-другому. Этот – колхоз хочет в свои сани запрячь. Приспособился – из тех же колхозных пор сок выжимает. Да еще в почете, в мичуринцах ходит. Так?
Новожилов сделал протестующий жест.
– Ну как же! Он тут в райцентре кое-кому глаза табаком засыпал – оборону выстроил. Он и мне огурчиков свежих приносил. Наши, говорит, не понимают – не оценят. Культурного человека, говорит, приятно и угостить. Видал? И знаешь, что меня удивляет? Терпимость колхозников. Ну сняли с бригадиров. А дальше? Да я бы из него душу вытряхнул, счет предъявил. Вот тот же Степан Андреянович. Был у меня с ним разговор о Федоре Капитоновиче. Только рукой отмахнулся. Положим, этот считает, что морального права не имеет: сам в грехе жил. Ну а остальные? Вроде как брезгуют им, боятся испачкаться об него…
– Не то сейчас на уме у людей, – задумчиво произнес Новожилов. – Понимают, в какую мишень бить надо.
– Да, но с этим Федором Капитоновичем – помяни мое слово – придется еще иметь дело. Нет, так просто от него не отмахнешься.
– Ладно. – Новожилов встал, расправил плечи. – Ты еще загляни перед отъездом. С тобой интересно поговорить… Что-то у меня к тебе еще было… Да, вот что. Помнишь, ты говорил мне насчет профиля колхозов? Ну, что в одном колхозе надо упор на животноводство делать, а в другом на овощи. Помнишь?
Лукашин утвердительно кивнул головой.
– Ну так я об этом думал… Это очень важно. Не поленись, напиши подробную записку. Это все надо обмозговать. А то у нас действительно ерунда. Есть ли, нет ли у колхоза пастбища, сенокосы, выгодно ли им овощи разводить, а план один, все чохом…
На улице Лукашин подумал: надо бы в больницу сходить – Настю проведать. Но он представил, какая это будет тягостная встреча, и решил отложить свидание ближе к отъезду.
После полудня, справив дела в военкомате, Лукашин на попутной подводе выехал в Пекашино. Возница, крупная глухая баба, в ушанке поверх шали, как села в передок телеги, так и сидела истуканом, не пошевелившись ни разу за всю дорогу. Лошаденка тащилась, еле передвигая ноги. Телега, давно не мазанная, скрипела.
Лежа в задке телеги, Лукашин покусывал травяную былку и думал все об одном и том же: об Анфисе, об их разрыве, о том, как глупо все получилось у Варвары. «Ах, чертова баба, – горячился он, – вот бы кого вздул сейчас с удовольствием!»
«Виноват… виноват…» – со скрипом выговаривали колеса.
Он ворочался с боку на бок, закрывал руками уши, но стоило ему забыться, и в уши опять лез скрипучий перестук колес: «Виноват… виноват…»
«Ну, конечно же, виноват, – признавался Лукашин. – И надо было таскаться к этой вертихвостке… Баню выдумала…»
И чем больше он бичевал себя, тем прекраснее и желаннее становилась для него Анфиса. Закрыв глаза, он припоминал свои встречи и разговоры с нею, мысленно нашептывал ей самые нежные и ласковые слова, снова и снова вспоминал свою недавнюю встречу у прясла. Растерянно-счастливые глаза Анфисы, какая-то хмельная, головокружительная работа… Полдник под кустом. В тени куста холодок, но от разгоряченного тела Анфисы – жар. Как от солнца… Вечером они шли по теплой, пыльной дороге, из-под ног у них с треском сыпались кузнечики, пахло конопляниками, и в мягких сумерках, совсем-совсем рядом, ее лицо… Ах, как хорошо!..
Резкий толчок телеги встряхнул его. Он открыл глаза. Телега сворачивала с большака в перелесок. Значит, скоро сельсовет. Подумав, он спрыгнул наземь. Недоставало еще встретиться сейчас с председателем. Начнет опять изводить вопросами, что да как на фронте. Будто он Комитет обороны… Сзади него последний раз проскрипели колеса.
За поворотом большака Лукашин спустился к реке – лугами до Пекашина ближе. Сквозь приречные кусты ивняка лениво поблескивала Пинега. Нога мягко ступала по роскошной отаве. Тихо похрустывали опавшие листья. Наступала осень…
У ручья Лукашин нагнулся, чтобы напиться. И в это время услышал над собой какие-то тоскливые, за душу хватающие звуки, падающие прямо с неба. Он поднял голову. Высоко-высоко в холодном поднебесье, вытянувшись неровным, изгибающимся клином, летели журавли.
«Рано они что-то в этом году», – подумал Лукашин.
Закинув голову, он долго следил за ними. Вот уж они рябят черными точками, вот уж и точки растаяли в голубой дали, а в воздухе все еще стоит тоскливое прощальное «курлы»…
Тревожное, щемящее чувство все сильнее и сильнее охватывало его. Он попытался представить себе путь журавлей: через фронты, через пожарища, через завесы черного дыма, подымающегося до самого неба…
И постепенно в его воображении встала Россия – израненная, окровавленная, в неимоверном напряжении ведущая гигантский бой на своих просторах. Сейчас он как бы заново перечитывал суровые призывы газет, вникал в их простой и страшный смысл: «Социалистическое отечество в опасности!», «Ни шагу назад!», «Выстоять!». И постыдными и ничтожными показались ему те личные переживания и муки, которыми он жил и страдал последнее время. Одно огромное желание: «Выстоять!», которым сейчас жила вся страна, захватило его целиком и вытеснило все другие желания.
Твердым, размашистым шагом Лукашин зашагал к деревне. Теперь все ясно. Скорей, скорей на фронт!
Но едва он поднялся на пригорок и далеко впереди себя увидел белый платок, как прежние сумятица и неразбериха поднялись в его душе. У прясла на возу стояла Анфиса и укладывала снопы.
И тут Лукашин впервые по-настоящему понял, что через неделю он уже не увидит ее…
В сумерках Лукашин зашел в правление. Огня не было, но он еще с порога разглядел белый платок Анфисы. Она сидела с кем-то в потемках, разговаривала.
Лукашин осторожно присел к печке, прислушался.
– Дите ведь скоро… – всхлипывал мужской голос, – а она и видеть меня не хочет, в дом не пускает.
Лукашин мысленно посочувствовал Николаше, который сейчас, видимо, был в таком отчаянном горе, что растерял свое красноречие.
– Дите ведь… Кабы я сильничал, а то «видеть не хочу»…
– Что уж она так-то… – задумчиво сказала Анфиса. – Сама кашу заварила, а теперь нос воротит. Ты ведь тоже чего-нибудь стоишь. Так-то и пробросаться можно.
– Вот, вот… – заширкал носом Николаша, – так мне и мать говорит. Брось, говорит, Колька, сама прибежит, вешаться еще будет. А я не могу… Любовь… Тебя бы она послушала, Петровна, а?..
– Ладно, поговорю. А ты тоже хорош. Раскис! Хуже бабы. Гордость иметь надо.
Когда Николаша вышел, Лукашин, волнуясь, подошел к Анфисе:
– Нам поговорить надо…
– Мы свое отговорили… – Голос Анфисы показался ему усталым, безразличным.
– Анфиса, пойми, я через три дня уезжаю…
Он слышит глубокое дыхание.
– Через три дня… – Голос Анфисы дрогнул.
Но вслед за тем она спокойно сказала:
– Ну, счастливого пути, Иван Дмитриевич.
– Фиса, дорогая… – Лукашин схватил ее за руку.
Анфиса резко вырвала руку, гневным шепотом опалила его:
– Постыдился бы!
Скрипнула дверь. Кто-то вошел в контору.
– О нас не беспокойтесь, Иван Дмитриевич, – сказала громко Анфиса. – А в дорогу вас соберем. Кладовщик масла, мяса даст. За добро добром платят…
Лукашин, едва не сбив какую-то женщину, кинулся к двери и выбежал из правления.