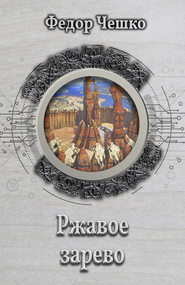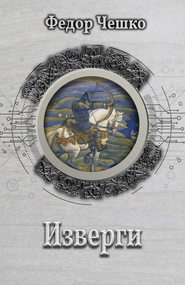По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между степью и небом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Один из них лежал на спине, нелепо вздернув щетинистый подбородок. Его заплывшая кровью шея показалась Михаилу не по-человечьи тонкой, неправильной какой-то. Лишь через пару мгновений лейтенант доморгался-таки до причины этой кажущейся неправильности и торопливо отвел взгляд, еле сдерживая накатившую тошноту.
Второй караульный – боец Голубев – валялся по другую сторону от раскачивающейся под ветряными порывами сосенки.
А вот немца на поляне не оказалось.
Замерший было рядом с Мечниковым старший политрук очнулся от столбняка гораздо быстрее Михаила.
– Кто-нибудь может сказать, что здесь?..
Договорить Зурабу не дала бесцеремонно пропихавшаяся между ним и лейтенантом Вешка. Буркнув “извините” тоном, каким обычно произносят что-нибудь вроде “ишь, раззявы, офонарели на самой дороге!”, она в два шага оказалась рядом с истекающим кровью караульным, но, едва глянув на него, метнулась дальше, к Голубеву.
– Этот жив, – санинструктор опустилась на колени и вдруг, примерившись, закатила беспамятному бойцу неслабую оплеуху.
Голубев застонал, дернулся.
– Живехонек, – удовлетворенно повторила Вешка. – Кто-нибудь, помогите ему сесть.
– Что с ним? – угрюмо спросил Зураб.
– Обморок, – Белкина торопливо расстегивала Голубевский воротник. – Сейчас придет в себя.
– Ну так всё-таки, может мне кто-нибудь… – Ниношвили попытался вновь повторить недоспрошенное, и вновь же ему не дали закончить.
С диким пронзительным воплем красноармеец Голубев отшвырнул санинструктора, вскочил и, не разбирая дороги, кинулся наутек… то есть попробовал кинуться наутек. Продолжая вопить, он слепо врезался в кого-то из окружавших полянку.
Дальнейшего Михаил не видел, потому что рванулся к ударившейся о сосновый стол Вешке. Не видел, но слышал. Слышал, как Голубевскому ору принялся вторить еще кто-то – очевидно, вдавленный в колючие заросли; как там, в зарослях, взбурлило стремительное многоногое топотание; как старший политрук рявкнул: “Да заткните же ему пасть!”, и Голубевские вопли моментально обрубились задавленным натужным мычанием – кажется, приказ был воспринят буквально.
Белкина отстрадалась от внезапной передряги несколькими царапинами да неопасным ушибом. Пока Мечников помогал ей встать и наскоро удостоверивался, что ушиб действительно не опасен, а царапины – действительно всего-навсего царапины, свихнувшегося бойца Голубева успели более ли менее привести в чувство. Во всяком случае, боец этот перестал рваться в бега и уже кое-как отвечал на нетерпеливые вопросы Зураба. Правда, уразуметь хоть что-нибудь из Голубевских ответов было сложно. И не только потому, что боец заикался, всхлипывал и так стучал зубами, что беспрерывно прикусывал язык. Даже когда его слова удавалось разобрать, смысл разобранного казался чем угодно, кроме именно смысла. Получалось, будто бы всё здесь на полянке было тихо и мирно, пока Голубев не решился отойти для короткой надобности. Он несколько раз подчеркнул, что пост свой не покинул ни на секунду – даже для пресловутой надобности в кусты не полез, а только отошел на край полянки да повернулся к напарнику и немцу спиной. Но почти сразу же услыхал позади странный звук, оглянулся и увидел, что второму караульному вцепился в горло огромный волчина.
– Вот т-т-таке-енный, – бормотал Голубев, дергая трясущейся рукой метрах в полутора от земли. – Ей-бо, вот т-такеннейший! Рыж-жий т-такой, прям даже красный, и зуб-бы медные. А вместо глаз жари-инки. С пятак. И ч-ч-чадят. Вот ей-бо, чадят, как угли в костре!
Больше он ничего не помнил – ни как исчез пленный ганс, ни куда подевалось оружие самого Голубева и Голубевского напарника.
Дело пахло нешуточной паникой. Мнущиеся вокруг полянки красноармейцы в большинстве своём всё активнее проявляли желание убраться куда-нибудь как можно дальше – повальное бегство сдерживали (ПОКА ЕЩЕ сдерживали) теснота да неприкрытая боязнь отлепиться от колючей кустарниковой стены и ступить хоть на шаг ближе к середине бестравной проплешины.
Кто-то бормотал: “Точно! Я своими ушами слыхал рыканье. А Фадеев видел, как отсюда выскочило громадное, рыжее… А, Фадеев?”; кто-то (причём не сказать, чтобы из пожилых) крестился, немо да истово шевеля губами; кто-то подталкивал соседей локтями, спрашивал с лихорадочною надеждой: “Врёт ведь, правда? Он же всё врёт! Правда?” – но соседи лишь досадливо матерились в ответ…
Солдаты, научившиеся не бледнеть от истошно-истеричного “Та-а-анки-и!!!” и способные выдержать многочасовой миномётно-пулемётный обстрел (который, пожалуй, страшнее, чем даже прицельная бомбёжка); бойцы, по приказу бравого героя Гражданской войны дисциплинированно поднимавшиеся в штыковую на немецкие панцервагены…
Но вот теперь…
Что-то кем-то мельком увиденное… Невнятный слушок, со скоростью радиоволн разнесенный по лагерю беспроволочным солдатским телеграфом конструкции Звонарёва-Брехальского (единственный вид связи в РККА, безотказно действующий с первых минут войны), а потом – малоразборчивое блеянье, насилу продавившееся сквозь лязг зубов ошалелого паникёра… Лишь намёк на какую-то сверхъестественность – и всё. Отвага, испытанная многажды и через всякую меру, сгинула без следа.
Никакие уговоры не помогут – логика против такого бессильна. И чёрт знает, как их теперь успокаивать. Тут бы крепко раскинуть умом, чтоб без ошибки, чтобы наверняка да сразу, но умом раскидывать некогда: в любую секунду, стоит лишь кому-нибудь матюкнуться громче прежнего или хоть просто чихнуть – и готово дело. Причём каким оно окажется, дело-то, совершенно невозможно предсказать наперед. Свихнувшаяся с катушек толпа, да еще и вооруженная – поди угадай, во что это выльется!
– Оказывается, ни на хрен собачий ты, Голубев, не годишься, – сказал вдруг Ниношвили со спокойной жесткой усмешечкой. – Вот у нас в селе был пастух, дядя Андроник, так он, когда трёх баранов потерял, такого наплёл – упасть и на лету умереть, да! Бандиты, диверсанты на парашютах, какая-то обезьяна с человека ростом… Получалось, дядю Андроника не ругать надо, что потерял трёх баранов, а представить к ордену – за то, что остальных уберёг. Так врал – из соседних сёл приходили слушать. Даже из Поти человек приехал, всё записал. Правда, с этим городским вышла ошибка: думали, он из газеты, а оказалось, из прокуратуры, да… Вот как надо врать, Голубев! А у тебя воображения совсем столько, сколько ума. То есть нету. Цхэ!
Голубев пытался было что-то сказать, но старший политрук перебил:
– Да застегни, наконец, мотню, шени мама! Оно конечно, твой стручок без бинокля не разглядишь, но порядок в обмундировании должен быть, нет?!
Слава богу, кто-то всё же хихикнул.
А когда боец Голубев, лицо которого мгновенно сменило контр-революционную белизну на цвет Рабоче-крестьянской армии, запутался трясущимися пальцами в шириночных петлях-пуговицах, разрозненное хихиканье переросло в смех – сдержанный, вымученный, но всё-таки настоящий.
Не успел Мечников подумать, какой Зураб молодец и до чего же удачно вышло, что ответственность за остатки шестьдесят третьего отдельного взвалил на себя старший политрук Ниношвили, а не кто-нибудь из тогда ещё живых строевых командиров… То есть нет, лейтенант Мечников как раз успел подумать обо всём этом. И ещё Михаил успел подумать, что сам он по сравнению с Зурабом не командир, а так – лучший сапёр среди живописцев и лучший живописец среди сапёров.
Белкина тоже кое-что успела. Пока несчастный красноармеец Голубев приводил “нижний воротничок” в соответствие с требованиями устава, Вешка внимательно оглядела поляну, а потом вдруг больно прихватила Мечникова за руку и поволокла в сторонку – составлять компанию тем, кто изображал собственные барельефы на сплошной стене колючих кустов.
Михаил упёрся – сперва просто от неожиданности, но через миг, проследив направление взгляда распахнувшихся на пол-лица санинструкторских глаз, разом понял всё: и солдатскую опаску перед срединой треклятого песчаного лишая, и причину едва не заварившейся паники (впрочем, “едва не” – это ещё вилами на воде намалёвано)… Понял, поскольку разглядел, наконец, то, что кадровый военный с тренированной наблюдательностью художника и минёра обязан был заметить, только-только ступив на поляну. А вот каждый из некадровых и не всё-такое-прочее бойцов, похоже, усматривал это моментально, именно “только-только ступив на”.
Следы.
Кроме сапог отечественого да германского образца здешний песок обильно истоптали ещё и лапы. Очень крупные. С вот этакими когтями. Причём немецкие рубчатые подошвы на полянку вроде бы только вошли, а когтистые лапы вроде бы только вышли. Может, конечно, выходной след первых и входной вторых просто оказались затоптанными, а может…
Как это по-ихнему, по-германски – вервольф?
Вагнер, “Кольцо небелунгов”, языческая символика… берлинская академия оккультных наук… буквально навязанный в пленные эсэсовец оборачивается волком…
И тут же, словно подслушав лихорадочную бессвязицу Михаиловых мыслей, плаксиво закричал Голубев:
– Да не вру я!!! Вы это… Вы следы гляньте! А когда я обернулся, ганса не было, только волк!!!
– Заткнись, идиот! – На сей раз лейтенант Мечников среагировал раньше Зураба. – Мы же с тобой вместе видели волка. Несколько раз, ночью. Забыл? И когда пленного уже захватили – тоже видели. Чего башкой трясёшь, ты, трус?! Видели! Так что намёки свои брехливые кончай, не то… – выдрав, наконец, рукав из Вешкиных пальцев, Михаил взялся за кобуру.
– Это не волк, – неожиданно подал голос один из прилипших к кустам бойцов.
Михаил резко обернулся; Ниношвили тоже зашарил хмурым взглядом по солдатским лицам (кто, мол, тут выискался такой знаток?); и сами солдаты заозирались, по-гусиному вытягивая шеи… А “знаток”, мгновенье-другое поколебавшись, всё-таки вышагнул на поляну, взял “к ноге” трофейную снайперку и довольно лихо пристукнул каблуками:
– Старшина Черных. Разрешите пояснить, товарищ старший политрук?
Товарищ старший политрук скривился и буркнул нечто малоразборчивое.
– Это не волк, – старшина почему-то решил счесть Зурабово междометие утвердительным ответом. – Это просто большая собака, я головой ответить могу.
И.о. комполка насмешливо поцокал языком:
– Скажи, пожалуйста – даже голову не пожалел! И откуда же такая уверенность?
– А из следов. Я, товарищ старший политрук, сам деревенский, с Амура – в следах толк понимаю.
– Да ты ж не охотник, – встрял в разговор кто-то из бойцов, – ты ж в своём зверосовхозе на полуторке шоферил!
– В наших краях все охотники, – невозмутимо сказал Черных.
– Вот и сошлось… – Михаил обернулся к старшему политруку. – Помнишь…те утренний разговор? Вот почему гансы отдали нам часового – его страховала обученная собака. Конечно, риск… Но именно риск – не жертва!
Ниношвили молчал. Вместо него, выдержав тактичную паузу, снова заговорил старшина:
Второй караульный – боец Голубев – валялся по другую сторону от раскачивающейся под ветряными порывами сосенки.
А вот немца на поляне не оказалось.
Замерший было рядом с Мечниковым старший политрук очнулся от столбняка гораздо быстрее Михаила.
– Кто-нибудь может сказать, что здесь?..
Договорить Зурабу не дала бесцеремонно пропихавшаяся между ним и лейтенантом Вешка. Буркнув “извините” тоном, каким обычно произносят что-нибудь вроде “ишь, раззявы, офонарели на самой дороге!”, она в два шага оказалась рядом с истекающим кровью караульным, но, едва глянув на него, метнулась дальше, к Голубеву.
– Этот жив, – санинструктор опустилась на колени и вдруг, примерившись, закатила беспамятному бойцу неслабую оплеуху.
Голубев застонал, дернулся.
– Живехонек, – удовлетворенно повторила Вешка. – Кто-нибудь, помогите ему сесть.
– Что с ним? – угрюмо спросил Зураб.
– Обморок, – Белкина торопливо расстегивала Голубевский воротник. – Сейчас придет в себя.
– Ну так всё-таки, может мне кто-нибудь… – Ниношвили попытался вновь повторить недоспрошенное, и вновь же ему не дали закончить.
С диким пронзительным воплем красноармеец Голубев отшвырнул санинструктора, вскочил и, не разбирая дороги, кинулся наутек… то есть попробовал кинуться наутек. Продолжая вопить, он слепо врезался в кого-то из окружавших полянку.
Дальнейшего Михаил не видел, потому что рванулся к ударившейся о сосновый стол Вешке. Не видел, но слышал. Слышал, как Голубевскому ору принялся вторить еще кто-то – очевидно, вдавленный в колючие заросли; как там, в зарослях, взбурлило стремительное многоногое топотание; как старший политрук рявкнул: “Да заткните же ему пасть!”, и Голубевские вопли моментально обрубились задавленным натужным мычанием – кажется, приказ был воспринят буквально.
Белкина отстрадалась от внезапной передряги несколькими царапинами да неопасным ушибом. Пока Мечников помогал ей встать и наскоро удостоверивался, что ушиб действительно не опасен, а царапины – действительно всего-навсего царапины, свихнувшегося бойца Голубева успели более ли менее привести в чувство. Во всяком случае, боец этот перестал рваться в бега и уже кое-как отвечал на нетерпеливые вопросы Зураба. Правда, уразуметь хоть что-нибудь из Голубевских ответов было сложно. И не только потому, что боец заикался, всхлипывал и так стучал зубами, что беспрерывно прикусывал язык. Даже когда его слова удавалось разобрать, смысл разобранного казался чем угодно, кроме именно смысла. Получалось, будто бы всё здесь на полянке было тихо и мирно, пока Голубев не решился отойти для короткой надобности. Он несколько раз подчеркнул, что пост свой не покинул ни на секунду – даже для пресловутой надобности в кусты не полез, а только отошел на край полянки да повернулся к напарнику и немцу спиной. Но почти сразу же услыхал позади странный звук, оглянулся и увидел, что второму караульному вцепился в горло огромный волчина.
– Вот т-т-таке-енный, – бормотал Голубев, дергая трясущейся рукой метрах в полутора от земли. – Ей-бо, вот т-такеннейший! Рыж-жий т-такой, прям даже красный, и зуб-бы медные. А вместо глаз жари-инки. С пятак. И ч-ч-чадят. Вот ей-бо, чадят, как угли в костре!
Больше он ничего не помнил – ни как исчез пленный ганс, ни куда подевалось оружие самого Голубева и Голубевского напарника.
Дело пахло нешуточной паникой. Мнущиеся вокруг полянки красноармейцы в большинстве своём всё активнее проявляли желание убраться куда-нибудь как можно дальше – повальное бегство сдерживали (ПОКА ЕЩЕ сдерживали) теснота да неприкрытая боязнь отлепиться от колючей кустарниковой стены и ступить хоть на шаг ближе к середине бестравной проплешины.
Кто-то бормотал: “Точно! Я своими ушами слыхал рыканье. А Фадеев видел, как отсюда выскочило громадное, рыжее… А, Фадеев?”; кто-то (причём не сказать, чтобы из пожилых) крестился, немо да истово шевеля губами; кто-то подталкивал соседей локтями, спрашивал с лихорадочною надеждой: “Врёт ведь, правда? Он же всё врёт! Правда?” – но соседи лишь досадливо матерились в ответ…
Солдаты, научившиеся не бледнеть от истошно-истеричного “Та-а-анки-и!!!” и способные выдержать многочасовой миномётно-пулемётный обстрел (который, пожалуй, страшнее, чем даже прицельная бомбёжка); бойцы, по приказу бравого героя Гражданской войны дисциплинированно поднимавшиеся в штыковую на немецкие панцервагены…
Но вот теперь…
Что-то кем-то мельком увиденное… Невнятный слушок, со скоростью радиоволн разнесенный по лагерю беспроволочным солдатским телеграфом конструкции Звонарёва-Брехальского (единственный вид связи в РККА, безотказно действующий с первых минут войны), а потом – малоразборчивое блеянье, насилу продавившееся сквозь лязг зубов ошалелого паникёра… Лишь намёк на какую-то сверхъестественность – и всё. Отвага, испытанная многажды и через всякую меру, сгинула без следа.
Никакие уговоры не помогут – логика против такого бессильна. И чёрт знает, как их теперь успокаивать. Тут бы крепко раскинуть умом, чтоб без ошибки, чтобы наверняка да сразу, но умом раскидывать некогда: в любую секунду, стоит лишь кому-нибудь матюкнуться громче прежнего или хоть просто чихнуть – и готово дело. Причём каким оно окажется, дело-то, совершенно невозможно предсказать наперед. Свихнувшаяся с катушек толпа, да еще и вооруженная – поди угадай, во что это выльется!
– Оказывается, ни на хрен собачий ты, Голубев, не годишься, – сказал вдруг Ниношвили со спокойной жесткой усмешечкой. – Вот у нас в селе был пастух, дядя Андроник, так он, когда трёх баранов потерял, такого наплёл – упасть и на лету умереть, да! Бандиты, диверсанты на парашютах, какая-то обезьяна с человека ростом… Получалось, дядю Андроника не ругать надо, что потерял трёх баранов, а представить к ордену – за то, что остальных уберёг. Так врал – из соседних сёл приходили слушать. Даже из Поти человек приехал, всё записал. Правда, с этим городским вышла ошибка: думали, он из газеты, а оказалось, из прокуратуры, да… Вот как надо врать, Голубев! А у тебя воображения совсем столько, сколько ума. То есть нету. Цхэ!
Голубев пытался было что-то сказать, но старший политрук перебил:
– Да застегни, наконец, мотню, шени мама! Оно конечно, твой стручок без бинокля не разглядишь, но порядок в обмундировании должен быть, нет?!
Слава богу, кто-то всё же хихикнул.
А когда боец Голубев, лицо которого мгновенно сменило контр-революционную белизну на цвет Рабоче-крестьянской армии, запутался трясущимися пальцами в шириночных петлях-пуговицах, разрозненное хихиканье переросло в смех – сдержанный, вымученный, но всё-таки настоящий.
Не успел Мечников подумать, какой Зураб молодец и до чего же удачно вышло, что ответственность за остатки шестьдесят третьего отдельного взвалил на себя старший политрук Ниношвили, а не кто-нибудь из тогда ещё живых строевых командиров… То есть нет, лейтенант Мечников как раз успел подумать обо всём этом. И ещё Михаил успел подумать, что сам он по сравнению с Зурабом не командир, а так – лучший сапёр среди живописцев и лучший живописец среди сапёров.
Белкина тоже кое-что успела. Пока несчастный красноармеец Голубев приводил “нижний воротничок” в соответствие с требованиями устава, Вешка внимательно оглядела поляну, а потом вдруг больно прихватила Мечникова за руку и поволокла в сторонку – составлять компанию тем, кто изображал собственные барельефы на сплошной стене колючих кустов.
Михаил упёрся – сперва просто от неожиданности, но через миг, проследив направление взгляда распахнувшихся на пол-лица санинструкторских глаз, разом понял всё: и солдатскую опаску перед срединой треклятого песчаного лишая, и причину едва не заварившейся паники (впрочем, “едва не” – это ещё вилами на воде намалёвано)… Понял, поскольку разглядел, наконец, то, что кадровый военный с тренированной наблюдательностью художника и минёра обязан был заметить, только-только ступив на поляну. А вот каждый из некадровых и не всё-такое-прочее бойцов, похоже, усматривал это моментально, именно “только-только ступив на”.
Следы.
Кроме сапог отечественого да германского образца здешний песок обильно истоптали ещё и лапы. Очень крупные. С вот этакими когтями. Причём немецкие рубчатые подошвы на полянку вроде бы только вошли, а когтистые лапы вроде бы только вышли. Может, конечно, выходной след первых и входной вторых просто оказались затоптанными, а может…
Как это по-ихнему, по-германски – вервольф?
Вагнер, “Кольцо небелунгов”, языческая символика… берлинская академия оккультных наук… буквально навязанный в пленные эсэсовец оборачивается волком…
И тут же, словно подслушав лихорадочную бессвязицу Михаиловых мыслей, плаксиво закричал Голубев:
– Да не вру я!!! Вы это… Вы следы гляньте! А когда я обернулся, ганса не было, только волк!!!
– Заткнись, идиот! – На сей раз лейтенант Мечников среагировал раньше Зураба. – Мы же с тобой вместе видели волка. Несколько раз, ночью. Забыл? И когда пленного уже захватили – тоже видели. Чего башкой трясёшь, ты, трус?! Видели! Так что намёки свои брехливые кончай, не то… – выдрав, наконец, рукав из Вешкиных пальцев, Михаил взялся за кобуру.
– Это не волк, – неожиданно подал голос один из прилипших к кустам бойцов.
Михаил резко обернулся; Ниношвили тоже зашарил хмурым взглядом по солдатским лицам (кто, мол, тут выискался такой знаток?); и сами солдаты заозирались, по-гусиному вытягивая шеи… А “знаток”, мгновенье-другое поколебавшись, всё-таки вышагнул на поляну, взял “к ноге” трофейную снайперку и довольно лихо пристукнул каблуками:
– Старшина Черных. Разрешите пояснить, товарищ старший политрук?
Товарищ старший политрук скривился и буркнул нечто малоразборчивое.
– Это не волк, – старшина почему-то решил счесть Зурабово междометие утвердительным ответом. – Это просто большая собака, я головой ответить могу.
И.о. комполка насмешливо поцокал языком:
– Скажи, пожалуйста – даже голову не пожалел! И откуда же такая уверенность?
– А из следов. Я, товарищ старший политрук, сам деревенский, с Амура – в следах толк понимаю.
– Да ты ж не охотник, – встрял в разговор кто-то из бойцов, – ты ж в своём зверосовхозе на полуторке шоферил!
– В наших краях все охотники, – невозмутимо сказал Черных.
– Вот и сошлось… – Михаил обернулся к старшему политруку. – Помнишь…те утренний разговор? Вот почему гансы отдали нам часового – его страховала обученная собака. Конечно, риск… Но именно риск – не жертва!
Ниношвили молчал. Вместо него, выдержав тактичную паузу, снова заговорил старшина:
Другие электронные книги автора Федор Федорович Чешко
Изверги




 0
0