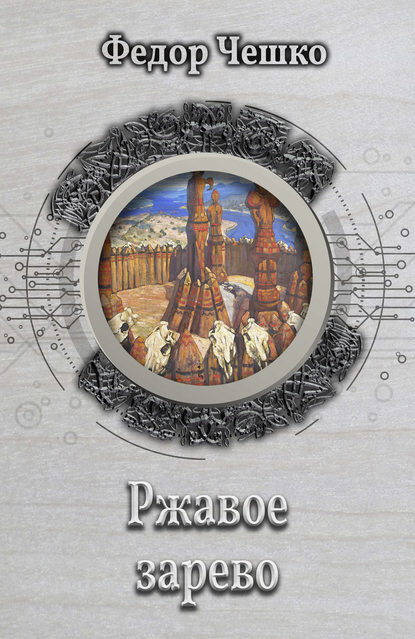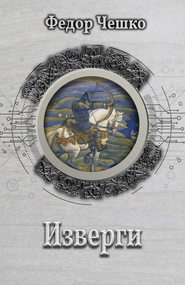По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ржавое зарево
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То не буйный ветер в чаще гудет,
Не зверина в буреломе ревет,
Не воронья туча грает,
И не молодец гуляет —
Переполнена корчага улочкой бредет.
Сиплый вой, в котором лишь с немалой натугою можно признать людское пение; смачное чавканье раскисших лаптей по жидкой грязи; надоедливый шум дождя… Проклятый дождь – он что, вознамерился идти вечно?.. Трижды проклятая грязь… Трижды по трижды проклятая жизнь – покуда еще коротковатая, но уже успевшая опостылеть, беспросветная, как низкое кудлатое небо, унылая даже в разгульности своей, как эта песня, самовольно рвущаяся из глотки, надорванной едким дымом плавильного горна.
В той корчаге то туды, то сюды
Колыхаются хмельные меды.
Уж они бурлят да бродят,
Хоровод со снедью водят —
Знать, хотят пойти наружу, натворить беды.
Только нам ли с той беды горевать?
Выйдет убыль – враз пополним опять.
Как не пить, коли подносят?
Как не петь, коль сердце просит?
Эвон псы нам подвывают… Эка благодать!
А дождь все льет и льет. Унылый, тоскливый, вялый. Вроде бы совсем недавно отрадовались-отгуляли празднество первого снопа; еще только начинают желтеть лиственные перелески – пока только грушевые деревья успели заполыхать полносильным осенним пламенем. И вот, на тебе… В единое утро под мокрым ветром с Ильменя синева неба заросла кудлатым хворостным мхом. И осень, толком даже еще не родившись, расплакалась по-старчески тихо да надоедливо, словно бы успев уже осознать неотвратимость гибели своей под студеным дыханьем белолюбивой Морены.
От дождевой воды да хмельного пота волосы на голове слиплись тяжким колтуном и мотались в такт нетвердому шагу; беленая праздничная рубаха мокра насквозь и вся в пятнах от браги, мясного сока и дорожной грязи; полосатые сине-белые штаны ямьской работы словно бы из сырой глины вылеплены и при каждом движении больно ляпают по коленям; на онучи да лапти вообще страх глядеть – ноги вместо ступней оканчиваются пудовыми комьями грязи с конским и прочим навозом пополам (это хорошо, ежели всего-навсего пополам)… Опояску не то на Гостюхином подворье забыл, не то дорогою утерял – пойди теперь, выищи…
Хорош, в общем – спасибо, хоть люди дорогой почти что не попадаются. Или попадаются, да ты вниманья не обращаешь? Наверное, так. Вон мимо скольких дворов пришлось пробираться – дождь дождем, а уж насмотрелись на тебя многие, будь покоен.
Переполнена корчага улочкой бредет…
Нет, не улочкой – улочки уж враг знает где остались.
Давным-давно вылилась путь-дорожка из Старого Града; вылилась, значит, и пошла виться-змеиться по Междуградью, через голые убранные поля да топтанные скотиной луга, мимо изгородей самочинных подворий… Дорожка-то вьется, петляет, с другими переплетается, и ноги хмельные бредут по тому плетению, куда сами хотят. Ну и куда же это они забрели? Оглядеться бы, не то занесут куда-нибудь вовсе в ненужные места!
Так и есть: занести не занесли, однако же крюка дали изрядного.
Эвон, всего лишь в полуверсте виднеется сквозь мутное дождевое марево Навий Град – кладовище вкруг подножия огромного, будто бы непомерной тяжестью своею приплюснутого Идолова Холма. Вон и курганы-могилы ясно видать… Разные они там – и круглые, и длинные, и такие, что лишь оплывшим горбочком кажут себя над землею… И смертные избы… И этак с любой стороны от подошвы почти до четверти высоты холма, с приплюснутой лысой вершины которого глядится в небо прадавнее идолище бога Велеса – огромное, едва ли не достающее каменной мордой тяжкие злые тучи… Или достающее-таки? Далековато, не разобрать отсель… Ближе, что ль, подойти? Ай, да пес с ним, с медведищем!
И-эх, то не буйный ветер в чаще гудет! Не зверина в бур-р… ур-р… Тьфу!
Ан куда же это все-таки тебя, дурня, несет? Тебе бы вниз, к берегу Гостинца-кормильца, да берегом-то и добираться. Дорога там легче, чище – все больше колодами да горбыльем мощена. А отдохнуть, к примеру… Под чью-нибудь лодью влез – вот тебе и отдых. А пожелаешь, так и ночлег.
Может, это ты на Холм волокся, к Корочуну-хранильнику? Может, и так, а только лучше б не надо: в этаком, с позволенья сказать, состояньице до Святилища ни в жисть не докарабкаться.
Домой бы… Мокро же, холодно, и сил уже нет дергать ноги из трижды клятой грязищи. Если бы спьяну не понесла нелегкая окольной верхней дорогой, уже бы две трети пути миновал. Поди, в этот самый миг мимо подворья самочинца Горюты шел бы, а это от твоего теперешнего дома рукой дотянуться.
Во, вот оно. Горютино подворье…
И прежде-то мимо него ходить опасался – а ну как хозяин на глаза попадется?! Уж небось руки своею бы волей голову его недоумковатую отвертели, сполна бы воздали старому псу, в расплату за чью вздорную гневливость община отсудила Векшу иноземным гостям – купленницей, двуногой скотиной…
То-то – прежде. А уж теперь, когда Векша воротилась… Да не одна, а с этим своим… Иной раз аж во сне привидится, как входишь на этот двор, да в глаза ей заглядываешь… Небось не отведет взгляда – даром что сызмальства у нее такая повадка: чуть не по ней, тут же вбок глядеть начинает, аж шея скрипит, выворачиваясь… А шея-то дивная, высокая, ровно лебяжья…
Да, вот так бы и наяву: глаза в глаза, чтоб без единого слова припомнила, как шепот ласковый слушала, какие слова шептала в ответ… Давно ли было? Всего лишь чуть больше двух лет тому…
И чтоб муж ее, зверина лесной, в этакий миг рядом случился – а ты бы его за бороду, да об стену, да оземь… Вот тогда-то поняла бы глупая Векша, кого на кого променяла. И – в слезы, в ноги тебе: прости, мол… А ты бы пальцы ее от рук своих оторвал, отворотился бы гордо, да прочь, через этого ее Вятича переступивши…
Ох-хо-хо… Во снах да в мечтах оно все ладно выходит, достойно, а вот на деле…
На деле ты, мил-друг, давеча как повстречал ненароком ее в проулочке, Векшу-то, так будто сила неведомая тебя через чужой плетень перенесла, за поленницу вмяла. Пес сторожевой заливается, штаны да то, что под ними, рвет-угрызает, а ты знай кулак в рот и сам же себя до крови: только бы прошла, только бы не заметила… Хорошо хоть псина попалась мелковатая – ночи три на брюхе поспал, на том и минулось. А ежели по правде праведной рассудить, кто перед кем виноват? Не Векше ли Горютиной от тебя за поленницами хорониться?
Да, вот те и сны-мечтания. Была Векша Горютина, а теперь она Вятичиха – на том тебе и вся праведная правда.
Стал быть, поклон вам, спотыкливы ноги да хмельна голова, что не проволокли дурного своего хозяина мимо Горютиного жилища.
Не проволокли. А теперь-то куда волочете? Домой? Х-ха!
Одна нам с вами, ноги, дорога – к Чарусе, так то не дом. У подъяремной скотины домов не бывает. Чаруса – он Чаруса и есть, хлябь несытеющая. И ведь как ни суди, а в той дурости, которой ты собственную долю изломал, твоей вины лишь половина. А вторая половина Векшина – разве не так? Причаровала, крепкими проволоками к себе прикрутила наузница волхвова; ты из любви этой безысходной судьбу свою растоптал, и что взамен? Вятичиха?!
Трясущиеся квелые пальцы торопливо нащупали на груди увесистый мешочек-лядунку, крепко стиснули его вместе с мокрым сорочечным полотном.
Все. Ни сил, ни желанья куда-либо брести более нет.
Некуда.
Незачем.
Обрыдло.
Ничего, погода нынче хороша – мокреть, холодно, ветер вон поднимается… До полуночи наверняка околеешь. И ладно. Лечь бы прямо где стоишь – в грязь так в грязь, заснуть (плевое дело – хмель пособит), увидать напоследок во сне ее, проклятущую, и…
Заплачет, наверное, когда дознается про погибель твою, пожалеет, что этак вот обошлась… А нет, так и не надо.
– Эй, ты, дурья голова! Чего встал шестом? Нашел, понимаешь, время да место… Шевелись – замерзнешь!
Ну вот, помереть – и то не дадут. Куда ни ткнись, одно невезенье. Теперь изволь оглядываться, браниться невесть с кем, чтоб отвязался, шел себе мимо да не лез с дурными советами к занятому человеку…
Нет, этот, пожалуй, вряд ли пойдет мимо. Точно, не пойдет. Потому что, во-первых, не пеший, а во-вторых, не один.
Видать, мысли безрадостные и шум дождя воспрепятствовали расслышать, как сзади подъехала да остановилась всего лишь в нескольких недлинных шагах телега, запряженная толстопузой лошадкой. А на телеге той сидят, свесив на одну сторону обутые в лапти ноги, два мужика. Степенные такие мужики, оба в летах (лицо одного вроде бы знакомо), одеты опрятно и почти сухо, потому как от дождя куском смоленой кожи накрылись… Сидят, значит, и рассматривают. Любуются, значит. Нашли чем…
– Эге, да это, никак, ты, Жежень? – удивленно протянул тот, знакомый (вот только имя его припомнить не удается… да и не хочется). – С чего это тебя сюда занесло?
Говорун примолк, дожидаясь хоть какого-нибудь ответа; потом (когда понял наконец тщетность ожидания) обернулся к своему спутнику:
– Это Жежень, подручный захребетник Чарусы-златокузнеца. Вот ведь как нахлестался! Небось, в Старом Граде, у Гостюхи бражничал – тот вдовую сестру за старика Гипа вытолкал. Дак куда ж ты, сердешный?.. – Это уже продолжающему бездумно хлопать глазами, столбенеющему средь дороги. – Куда ж ты забрел? И Гостюха хорош, в елку его, – залил мальца превыше ушей, да и отпустил. Нет бы у себя положить! Ну я ужо ему попеняю, Гостюхе-то!
Второй мужик сплюнул не без гадливости, загудел басовито, словно сердитый шмель:
– Ты лучше Чарусе бы попенял. Ишь, распустил выученика… Мальцу, поди, шестой аль седьмой год над первым десятком, а глянь на него! Хмелен до скотского уподобия, грязен, расхристан, рожа в кровищи… Ни чести, ни совести – срам глядеть. Такого бы вожжами с утра до вечера, а потом с вечера до утра, а потом сызнова…
Так, рожа, значит, в кровищи. Теперь понятно, почему пояса нет: дрался, стало быть. Распояской, по-честному, не по хмельной злобе… во всяком разе, сперва. А потом? И с кем дрался-то? Может, с самим же Гостюхой?
Не зверина в буреломе ревет,
Не воронья туча грает,
И не молодец гуляет —
Переполнена корчага улочкой бредет.
Сиплый вой, в котором лишь с немалой натугою можно признать людское пение; смачное чавканье раскисших лаптей по жидкой грязи; надоедливый шум дождя… Проклятый дождь – он что, вознамерился идти вечно?.. Трижды проклятая грязь… Трижды по трижды проклятая жизнь – покуда еще коротковатая, но уже успевшая опостылеть, беспросветная, как низкое кудлатое небо, унылая даже в разгульности своей, как эта песня, самовольно рвущаяся из глотки, надорванной едким дымом плавильного горна.
В той корчаге то туды, то сюды
Колыхаются хмельные меды.
Уж они бурлят да бродят,
Хоровод со снедью водят —
Знать, хотят пойти наружу, натворить беды.
Только нам ли с той беды горевать?
Выйдет убыль – враз пополним опять.
Как не пить, коли подносят?
Как не петь, коль сердце просит?
Эвон псы нам подвывают… Эка благодать!
А дождь все льет и льет. Унылый, тоскливый, вялый. Вроде бы совсем недавно отрадовались-отгуляли празднество первого снопа; еще только начинают желтеть лиственные перелески – пока только грушевые деревья успели заполыхать полносильным осенним пламенем. И вот, на тебе… В единое утро под мокрым ветром с Ильменя синева неба заросла кудлатым хворостным мхом. И осень, толком даже еще не родившись, расплакалась по-старчески тихо да надоедливо, словно бы успев уже осознать неотвратимость гибели своей под студеным дыханьем белолюбивой Морены.
От дождевой воды да хмельного пота волосы на голове слиплись тяжким колтуном и мотались в такт нетвердому шагу; беленая праздничная рубаха мокра насквозь и вся в пятнах от браги, мясного сока и дорожной грязи; полосатые сине-белые штаны ямьской работы словно бы из сырой глины вылеплены и при каждом движении больно ляпают по коленям; на онучи да лапти вообще страх глядеть – ноги вместо ступней оканчиваются пудовыми комьями грязи с конским и прочим навозом пополам (это хорошо, ежели всего-навсего пополам)… Опояску не то на Гостюхином подворье забыл, не то дорогою утерял – пойди теперь, выищи…
Хорош, в общем – спасибо, хоть люди дорогой почти что не попадаются. Или попадаются, да ты вниманья не обращаешь? Наверное, так. Вон мимо скольких дворов пришлось пробираться – дождь дождем, а уж насмотрелись на тебя многие, будь покоен.
Переполнена корчага улочкой бредет…
Нет, не улочкой – улочки уж враг знает где остались.
Давным-давно вылилась путь-дорожка из Старого Града; вылилась, значит, и пошла виться-змеиться по Междуградью, через голые убранные поля да топтанные скотиной луга, мимо изгородей самочинных подворий… Дорожка-то вьется, петляет, с другими переплетается, и ноги хмельные бредут по тому плетению, куда сами хотят. Ну и куда же это они забрели? Оглядеться бы, не то занесут куда-нибудь вовсе в ненужные места!
Так и есть: занести не занесли, однако же крюка дали изрядного.
Эвон, всего лишь в полуверсте виднеется сквозь мутное дождевое марево Навий Град – кладовище вкруг подножия огромного, будто бы непомерной тяжестью своею приплюснутого Идолова Холма. Вон и курганы-могилы ясно видать… Разные они там – и круглые, и длинные, и такие, что лишь оплывшим горбочком кажут себя над землею… И смертные избы… И этак с любой стороны от подошвы почти до четверти высоты холма, с приплюснутой лысой вершины которого глядится в небо прадавнее идолище бога Велеса – огромное, едва ли не достающее каменной мордой тяжкие злые тучи… Или достающее-таки? Далековато, не разобрать отсель… Ближе, что ль, подойти? Ай, да пес с ним, с медведищем!
И-эх, то не буйный ветер в чаще гудет! Не зверина в бур-р… ур-р… Тьфу!
Ан куда же это все-таки тебя, дурня, несет? Тебе бы вниз, к берегу Гостинца-кормильца, да берегом-то и добираться. Дорога там легче, чище – все больше колодами да горбыльем мощена. А отдохнуть, к примеру… Под чью-нибудь лодью влез – вот тебе и отдых. А пожелаешь, так и ночлег.
Может, это ты на Холм волокся, к Корочуну-хранильнику? Может, и так, а только лучше б не надо: в этаком, с позволенья сказать, состояньице до Святилища ни в жисть не докарабкаться.
Домой бы… Мокро же, холодно, и сил уже нет дергать ноги из трижды клятой грязищи. Если бы спьяну не понесла нелегкая окольной верхней дорогой, уже бы две трети пути миновал. Поди, в этот самый миг мимо подворья самочинца Горюты шел бы, а это от твоего теперешнего дома рукой дотянуться.
Во, вот оно. Горютино подворье…
И прежде-то мимо него ходить опасался – а ну как хозяин на глаза попадется?! Уж небось руки своею бы волей голову его недоумковатую отвертели, сполна бы воздали старому псу, в расплату за чью вздорную гневливость община отсудила Векшу иноземным гостям – купленницей, двуногой скотиной…
То-то – прежде. А уж теперь, когда Векша воротилась… Да не одна, а с этим своим… Иной раз аж во сне привидится, как входишь на этот двор, да в глаза ей заглядываешь… Небось не отведет взгляда – даром что сызмальства у нее такая повадка: чуть не по ней, тут же вбок глядеть начинает, аж шея скрипит, выворачиваясь… А шея-то дивная, высокая, ровно лебяжья…
Да, вот так бы и наяву: глаза в глаза, чтоб без единого слова припомнила, как шепот ласковый слушала, какие слова шептала в ответ… Давно ли было? Всего лишь чуть больше двух лет тому…
И чтоб муж ее, зверина лесной, в этакий миг рядом случился – а ты бы его за бороду, да об стену, да оземь… Вот тогда-то поняла бы глупая Векша, кого на кого променяла. И – в слезы, в ноги тебе: прости, мол… А ты бы пальцы ее от рук своих оторвал, отворотился бы гордо, да прочь, через этого ее Вятича переступивши…
Ох-хо-хо… Во снах да в мечтах оно все ладно выходит, достойно, а вот на деле…
На деле ты, мил-друг, давеча как повстречал ненароком ее в проулочке, Векшу-то, так будто сила неведомая тебя через чужой плетень перенесла, за поленницу вмяла. Пес сторожевой заливается, штаны да то, что под ними, рвет-угрызает, а ты знай кулак в рот и сам же себя до крови: только бы прошла, только бы не заметила… Хорошо хоть псина попалась мелковатая – ночи три на брюхе поспал, на том и минулось. А ежели по правде праведной рассудить, кто перед кем виноват? Не Векше ли Горютиной от тебя за поленницами хорониться?
Да, вот те и сны-мечтания. Была Векша Горютина, а теперь она Вятичиха – на том тебе и вся праведная правда.
Стал быть, поклон вам, спотыкливы ноги да хмельна голова, что не проволокли дурного своего хозяина мимо Горютиного жилища.
Не проволокли. А теперь-то куда волочете? Домой? Х-ха!
Одна нам с вами, ноги, дорога – к Чарусе, так то не дом. У подъяремной скотины домов не бывает. Чаруса – он Чаруса и есть, хлябь несытеющая. И ведь как ни суди, а в той дурости, которой ты собственную долю изломал, твоей вины лишь половина. А вторая половина Векшина – разве не так? Причаровала, крепкими проволоками к себе прикрутила наузница волхвова; ты из любви этой безысходной судьбу свою растоптал, и что взамен? Вятичиха?!
Трясущиеся квелые пальцы торопливо нащупали на груди увесистый мешочек-лядунку, крепко стиснули его вместе с мокрым сорочечным полотном.
Все. Ни сил, ни желанья куда-либо брести более нет.
Некуда.
Незачем.
Обрыдло.
Ничего, погода нынче хороша – мокреть, холодно, ветер вон поднимается… До полуночи наверняка околеешь. И ладно. Лечь бы прямо где стоишь – в грязь так в грязь, заснуть (плевое дело – хмель пособит), увидать напоследок во сне ее, проклятущую, и…
Заплачет, наверное, когда дознается про погибель твою, пожалеет, что этак вот обошлась… А нет, так и не надо.
– Эй, ты, дурья голова! Чего встал шестом? Нашел, понимаешь, время да место… Шевелись – замерзнешь!
Ну вот, помереть – и то не дадут. Куда ни ткнись, одно невезенье. Теперь изволь оглядываться, браниться невесть с кем, чтоб отвязался, шел себе мимо да не лез с дурными советами к занятому человеку…
Нет, этот, пожалуй, вряд ли пойдет мимо. Точно, не пойдет. Потому что, во-первых, не пеший, а во-вторых, не один.
Видать, мысли безрадостные и шум дождя воспрепятствовали расслышать, как сзади подъехала да остановилась всего лишь в нескольких недлинных шагах телега, запряженная толстопузой лошадкой. А на телеге той сидят, свесив на одну сторону обутые в лапти ноги, два мужика. Степенные такие мужики, оба в летах (лицо одного вроде бы знакомо), одеты опрятно и почти сухо, потому как от дождя куском смоленой кожи накрылись… Сидят, значит, и рассматривают. Любуются, значит. Нашли чем…
– Эге, да это, никак, ты, Жежень? – удивленно протянул тот, знакомый (вот только имя его припомнить не удается… да и не хочется). – С чего это тебя сюда занесло?
Говорун примолк, дожидаясь хоть какого-нибудь ответа; потом (когда понял наконец тщетность ожидания) обернулся к своему спутнику:
– Это Жежень, подручный захребетник Чарусы-златокузнеца. Вот ведь как нахлестался! Небось, в Старом Граде, у Гостюхи бражничал – тот вдовую сестру за старика Гипа вытолкал. Дак куда ж ты, сердешный?.. – Это уже продолжающему бездумно хлопать глазами, столбенеющему средь дороги. – Куда ж ты забрел? И Гостюха хорош, в елку его, – залил мальца превыше ушей, да и отпустил. Нет бы у себя положить! Ну я ужо ему попеняю, Гостюхе-то!
Второй мужик сплюнул не без гадливости, загудел басовито, словно сердитый шмель:
– Ты лучше Чарусе бы попенял. Ишь, распустил выученика… Мальцу, поди, шестой аль седьмой год над первым десятком, а глянь на него! Хмелен до скотского уподобия, грязен, расхристан, рожа в кровищи… Ни чести, ни совести – срам глядеть. Такого бы вожжами с утра до вечера, а потом с вечера до утра, а потом сызнова…
Так, рожа, значит, в кровищи. Теперь понятно, почему пояса нет: дрался, стало быть. Распояской, по-честному, не по хмельной злобе… во всяком разе, сперва. А потом? И с кем дрался-то? Может, с самим же Гостюхой?