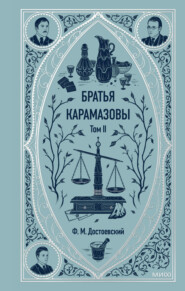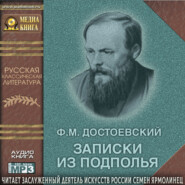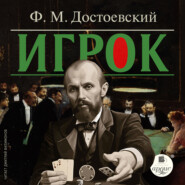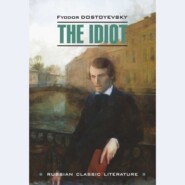По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двойник
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Потом, разумеется, может быть, будет известно-с.
«Плохо!» – подумал герой наш.
– Послушай, вот тебе еще, милый мой.
– Чувствительно благодарен вашему благородию.
– Вахрамеев был вчера здесь?..
– Были-с.
– А другого кого-нибудь не было ли!.. Припомни-ка, братец?
Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.
– Нет-с, никого другого не было-с.
– Гм! – Последовало молчание.
– Послушай, братец, вот тебе еще; говори все, всю подноготную.
– Слушаю-с. – Остафьев стоял теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.
– Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?
– Ничего-с, хорошо-с, – отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.
– То есть как хорошо?
– То есть так-с. – Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить.
«Плохо!» – подумал господин Голядкин.
– Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?
– Да и все, как и прежде-с.
– Подумай-ка.
– Есть, говорят-с.
– А ну, что же такое?
Остафьев попридержал рукою свой рот.
– Письма оттудова нет ли ко мне?
– А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.
– Сделай одолжение, братец, ради Создателя!.. Я только так… Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг…
– Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.
– Иван Семеныч? А! да! неужели?
– Андрей Филиппович указали им сесть-с…
– Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, ради создателя, разузнай это, братец; разузнай это все, – а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно… А ты не думай чего-нибудь, братец…
– Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?
– Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.
– Слушаю-с. – Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.
«Плохо, – подумал он. – Эх, плохо, плохо! Эх, дельцо-то наше… как теперь плоховато! Что бы это значило все? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили… Впрочем, что ж, – посадили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали… Это Вахрамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека, да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно! Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это… я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь… что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, все было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, – говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это все медведь мастерит. Во все это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось…» Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно, припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! – подумал он. – А вот только я все про свое. Что же это Остафьев не идет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того… и на моей стороне. Только вот дело в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны… и, с своей стороны согласись с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен“. Разбойник ты этакой!»
Послышался шум… господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» – подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги… Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, – высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, – проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» – проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по-особому», – подумал господин Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писаренки по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других в секрет замешал? – подумал герой наш. – Экие варвары! святого у них ничего не имеется!»
– Ну, что, мой друг? – проговорил он, обращаясь к Писаренке. – Ты, мой друг, от кого?..
– Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.
– А Остафьев?..
– Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.
– Спасибо, милый мой, спасибо тебе… Только ты мне скажи…
– Ей-богу же, некогда-с… Поминутно нас спрашивают-с… А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с…
– Нет, ты, мой друг, ты скажи…
– Позвольте-с; мне некогда-с, – говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, – право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.
– Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.
– Слушаюсь-с.
– Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.
– Голядкину?
– Да, мой друг, господину Голядкину.
– Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит…
– Нет, я, мой друг, ты не думай… я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь… буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?
«Плохо!» – подумал герой наш.
– Послушай, вот тебе еще, милый мой.
– Чувствительно благодарен вашему благородию.
– Вахрамеев был вчера здесь?..
– Были-с.
– А другого кого-нибудь не было ли!.. Припомни-ка, братец?
Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.
– Нет-с, никого другого не было-с.
– Гм! – Последовало молчание.
– Послушай, братец, вот тебе еще; говори все, всю подноготную.
– Слушаю-с. – Остафьев стоял теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.
– Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?
– Ничего-с, хорошо-с, – отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.
– То есть как хорошо?
– То есть так-с. – Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить.
«Плохо!» – подумал господин Голядкин.
– Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?
– Да и все, как и прежде-с.
– Подумай-ка.
– Есть, говорят-с.
– А ну, что же такое?
Остафьев попридержал рукою свой рот.
– Письма оттудова нет ли ко мне?
– А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.
– Сделай одолжение, братец, ради Создателя!.. Я только так… Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг…
– Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.
– Иван Семеныч? А! да! неужели?
– Андрей Филиппович указали им сесть-с…
– Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, ради создателя, разузнай это, братец; разузнай это все, – а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно… А ты не думай чего-нибудь, братец…
– Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?
– Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.
– Слушаю-с. – Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.
«Плохо, – подумал он. – Эх, плохо, плохо! Эх, дельцо-то наше… как теперь плоховато! Что бы это значило все? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили… Впрочем, что ж, – посадили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали… Это Вахрамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека, да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно! Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это… я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь… что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, все было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, – говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это все медведь мастерит. Во все это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось…» Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно, припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! – подумал он. – А вот только я все про свое. Что же это Остафьев не идет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того… и на моей стороне. Только вот дело в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны… и, с своей стороны согласись с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен“. Разбойник ты этакой!»
Послышался шум… господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» – подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги… Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, – высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, – проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» – проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по-особому», – подумал господин Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писаренки по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других в секрет замешал? – подумал герой наш. – Экие варвары! святого у них ничего не имеется!»
– Ну, что, мой друг? – проговорил он, обращаясь к Писаренке. – Ты, мой друг, от кого?..
– Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.
– А Остафьев?..
– Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.
– Спасибо, милый мой, спасибо тебе… Только ты мне скажи…
– Ей-богу же, некогда-с… Поминутно нас спрашивают-с… А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с…
– Нет, ты, мой друг, ты скажи…
– Позвольте-с; мне некогда-с, – говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, – право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.
– Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.
– Слушаюсь-с.
– Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.
– Голядкину?
– Да, мой друг, господину Голядкину.
– Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит…
– Нет, я, мой друг, ты не думай… я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь… буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?