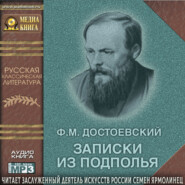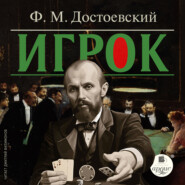По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. Части 3, 4
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что это ты вдруг о нем?
– Чего я вдруг о нем? Вздор! Все кончается, все равняется, черта – и итог.
– Право, мне всё твои пистолеты мерещатся.
– И пистолеты вздор! Пей и не фантазируй. Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, что и мерзко. Довольно! За жизнь, голубчик, за жизнь выпьем, за жизнь предлагаю тост! Почему я доволен собой? Я подл, но доволен собой. И, однако ж, я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение, сейчас готов Бога благословить и Его творение, но… надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим жизни не портило… Выпьем за жизнь, милый брат! Что может быть дороже жизни! Ничего, ничего! За жизнь и за одну царицу из цариц.
– Выпьем за жизнь, а пожалуй, и за твою царицу.
Выпили по стакану. Митя был хотя и восторжен, и раскидчив, но как-то грустен. Точно какая-то непреодолимая и тяжелая забота стояла за ним.
– Миша… это твой Миша вошел? Миша, голубчик, Миша, поди сюда, выпей ты мне этот стакан, за Феба златокудрого, завтрашнего…
– Да зачем ты ему! – крикнул Петр Ильич раздражительно.
– Ну позволь, ну так, ну я хочу.
– Э-эх!
Миша выпил стакан, поклонился и убежал.
– Запомнит дольше, – заметил Митя. – Женщину я люблю, женщину! Что есть женщина? Царица земли!
Грустно мне, грустно, Петр Ильич. Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно, Горацио… Ах, бедный Иорик!» Это я, может быть, Иорик и есть. Именно теперь я Иорик, а череп потом.
Петр Ильич слушал и молчал, помолчал и Митя.
– Это какая у вас собачка? – спросил он вдруг рассеянно приказчика, заметив в углу маленькую хорошенькую болоночку с черными глазками.
– Это Варвары Алексеевны, хозяйки нашей болоночка, – ответил приказчик, – сами занесли давеча, да и забыли у нас. Отнести надо будет обратно.
– Я одну такую же видел… в полку… – вдумчиво произнес Митя, – только у той задняя ножка была сломана… Петр Ильич, хотел я спросить тебя кстати: крал ты когда что в своей жизни, аль нет?
– Это что за вопрос?
– Нет, я так. Видишь, из кармана у кого-нибудь, чужое? Я не про казну говорю, казну все дерут и ты, конечно, тоже…
– Убирайся к черту.
– Я про чужое: прямо из кармана, из кошелька, а?
– Украл один раз у матери двугривенный, девяти лет был, со стола. Взял тихонько и зажал в руку.
– Ну, и что же?
– Ну, и ничего. Три дня хранил, стыдно стало, признался и отдал.
– Ну, и что же?
– Натурально, высекли. Да ты чего уж, ты сам не украл ли?
– Украл, – хитро подмигнул Митя.
– Что украл? – залюбопытствовал Петр Ильич.
– У матери двугривенный, девяти лет был, через три дня отдал. – Сказав это, Митя вдруг встал с места.
– Дмитрий Федорович, не поспешить ли? – крикнул вдруг у дверей лавки Андрей.
– Готово? Идем! – всполохнулся Митя. – Еще последнее сказанье и… Андрею стакан водки на дорогу, сейчас! Да коньяку ему, кроме водки, рюмку! Этот ящик (с пистолетами) мне под сиденье. Прощай, Петр Ильич, не поминай лихом.
– Да ведь завтра воротишься?
– Непременно.
– Расчетец теперь изволите покончить? – подскочил приказчик.
– А, да, расчет! Непременно!
Он опять выхватил из кармана свою пачку кредиток, снял три радужных, бросил на прилавок и спеша вышел из лавки. Все за ним последовали и, кланяясь, провожали с приветствиями и пожеланиями. Андрей крякнул от только что выпитого коньяку и вскочил на сиденье. Но едва только Митя начал садиться, как вдруг пред ним совсем неожиданно очутилась Феня. Она прибежала вся запыхавшись, с криком сложила пред ним руки и бухнулась ему в ноги:
– Батюшка, Дмитрий Федорович, голубчик, не погубите барыню! А я-то вам все рассказала!.. И его не погубите, прежний ведь он, ихний! Замуж теперь Аграфену Александровну возьмет, с тем и из Сибири вернулся… Батюшка, Дмитрий Федорович, не загубите чужой жизни!
– Те-те-те, вот оно что! Ну, наделаешь ты теперь там дел! – пробормотал про себя Петр Ильич. – Теперь все понятно, теперь как не понять. Дмитрий Федорович, отдай-ка мне пистолеты, если хочешь быть человеком, – воскликнул он громко Мите, – слышишь, Дмитрий?
– Пистолеты? Подожди, голубчик, я их дорогой в лужу выброшу, – ответил Митя. – Феня, встань, не лежи ты предо мной. Не погубит Митя, впредь никого уж не погубит этот глупый человек. Да вот что, Феня, – крикнул он ей, уже усевшись, – обидел я тебя давеча, так прости меня и помилуй, прости подлеца… А не простишь, все равно! Потому что теперь уже все равно! Трогай, Андрей, живо улетай!
Андрей тронул; колокольчик зазвенел.
– Прощай, Петр Ильич! Тебе последняя слеза!..
«Не пьян ведь, а какую ахинею порет!» – подумал вслед ему Петр Ильич. Он расположился было остаться присмотреть за тем, как будут снаряжать воз (на тройке же) с остальными припасами и винами, предчувствуя, что надуют и обсчитают Митю, но вдруг, сам на себя рассердившись, плюнул и пошел в свой трактир играть на биллиарде.
– Дурак, хоть и хороший малый… – бормотал он про себя дорогой. – Про этого какого-то офицера «прежнего» Грушенькинова я слыхал. Ну, если прибыл, то… Эх, пистолеты эти! А, черт, что, я его дядька, что ли? Пусть их! Да и ничего не будет. Горланы и больше ничего. Напьются и подерутся, подерутся и помирятся. Разве это люди дела? Что это за «устранюсь», «казню себя» – ничего не будет! Тысячу раз кричал этим слогом пьяный в трактире. Теперь-то не пьян. «Пьян духом» – слог любят подлецы. Дядька я ему, что ли? И не мог не подраться, вся харя в крови. С кем бы это? В трактире узнаю. И платок в крови… Фу, черт, у меня на полу остался… наплевать!
Пришел в трактир он в сквернейшем расположении духа и тотчас же начал партию. Партия развеселила его. Сыграл другую и вдруг заговорил с одним из партнеров о том, что у Дмитрия Карамазова опять деньги появились, тысяч до трех, сам видел, и что он опять укатил кутить в Мокрое с Грушенькой. Это было принято почти с неожиданным любопытством слушателями. И все они заговорили, не смеясь, а как-то странно серьезно. Даже игру перервали.
– Три тысячи? Да откуда у него быть трем тысячам?
Стали расспрашивать дальше. Известие о Хохлаковой приняли сомнительно.
– А не ограбил ли старика, вот что?
– Три тысячи! Что-то не ладно.
– Похвалялся же убить отца вслух, все здесь слышали. Именно про три тысячи говорил…
Петр Ильич слушал и вдруг стал отвечать на расспросы сухо и скупо. Про кровь, которая была на лице и на руках Мити, не упомянул ни слова, а когда шел сюда, хотел было рассказать. Начали третью партию, мало-помалу разговор о Мите затих; но, докончив третью партию, Петр Ильич больше играть не пожелал, положил кий и, не поужинав, как собирался, вышел из трактира. Выйдя на площадь, он стал в недоумении и даже дивясь на себя. Он вдруг сообразил, что ведь он хотел сейчас идти в дом Федора Павловича, узнать, не произошло ли чего. «Из-за вздора, который окажется, разбужу чужой дом и наделаю скандала. Фу, черт, дядька я им, что ли?»