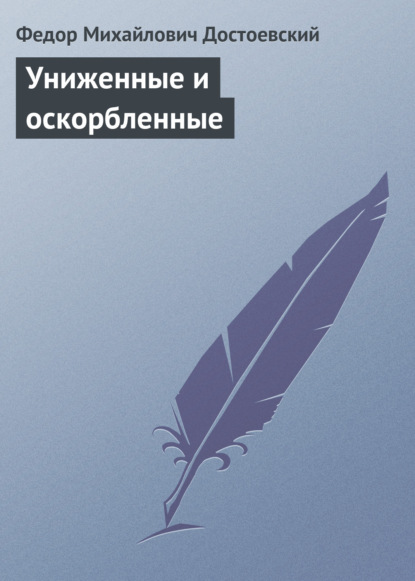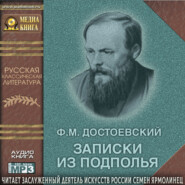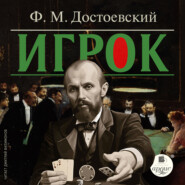По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Униженные и оскорбленные
Год написания книги
1859
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На Васильевском острове, – хрипел старик, – в Шестой линии… в Ше-стой ли-нии…
Он замолчал.
– Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли; это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу…
Старик не двигался. Я взял его за руку; рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него – он был уже мертвый. Мне казалось, что все это происходит во сне.
Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжение которых прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однакоже, жил не на Васильевском острову, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугена, под самою кровлею, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый, как камень, и из которого со всех сторон высовывалась мочала; да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась; свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтоб посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка и лежала старая, черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтоб похоронить его; кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом, совершенно один, и, верно, кто-нибудь, хоть изредка, навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, Иеремия Смит, машинист, семидесяти восьми лет от роду. На столе лежали две книги: краткая география и Новый завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома, – никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти всё мастеровые и немки, содержательницы квартир со столом и прислугою. Управляющий домом, из благородных, тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по шести рублей в месяц, что покойник жил в ней четыре месяца, но за два последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали: не ходил ли к нему кто-нибудь? Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой: мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег, всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет пять и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично и половины жильцов. Не знаю наверно, чем именно кончились тогда все эти справки, но, наконец, старика похоронили. В эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров, в Шестую линию, и только придя туда, усмехнулся сам над собою: что мог я увидать в Шестой линии, кроме ряда обыкновенных домов? «Но зачем же, – думал я, – старик, умирая, говорил про Шестую линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли?»
Я осмотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я оставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За шесть рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня; оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. «А кто знает, – думал я, – может быть, кто-нибудь и наведается о старике!» Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер, а еще никто не приходил.
ГЛАВА II
В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки кончилось тем, что я – вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?
Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие… Да, я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять.
Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из средины. Коли уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, не велика будет моя автобиография.
Родился я не здесь, а далеко отсюда, в -ской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на двадцать пятом году жизни и, умирая, вспомянуть только об одном тебе с восторгом и благодарностию! Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеич был управляющим; в этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой, сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились… Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным; и, когда, бывало, в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей, на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана с овражьего дна и нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой. Раз потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, как достали нам тогда однажды «Детское чтение», как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Альфонса и Далинду» – волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я, год тому назад, припомнил Наташе две первые строчки: «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии; дон Рамир, его отец» и т. д., я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась (я помню это) и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер; мы все перебрали: и то, когда меня отсылали в губернский город в пансион, – господи, как она тогда плакала! – и нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда семнадцать лет, ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощанья я отвел ее в сторону, чтоб сказать ей что-то ужасно важное; но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать, а она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя, в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.
ГЛАВА III
Николай Сергеич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневшей. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. Лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо; но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь – последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось пятьдесят душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. Сто душ погибло безвозвратно. Через два месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и, тридцати пяти лет от роду, женился на бедной дворяночке, Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш, чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться: в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеич превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось девятьсот душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Валковский. Его приезд произвел во всем околодке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы «сошли с ума от его любезностей», и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однакоже, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. Правда, что Николай Сергеич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих; особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепьяно, пел. Ихменевы не могли надивиться: как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи? Надобно думать, чтоб князю действительно понравился Николай Сергеич, человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но, при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и сверх того замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтоб Николай Сергеич сам предложил себя в управляющие; но этого не случилось, и князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам, в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменев сначала отказывался; но значительное жалованье соблазнило Анну Андреевну, а удвоенные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Ихменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги не много сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренно поверил в его дружбу. Николай Сергеич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые, если уж полюбят кого (иногда бог знает за что), то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического.
Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжения Николая Сергеича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Ихменева своею необыкновенною практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет пять после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в четыреста душ, в той же губернии. Николай Сергеич был в восторге; успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло… Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Валковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа.
ГЛАВА IV
Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нем лежали огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как «голяк – потомок отрасли старинной». Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в -ю губернию, где выхлопотал, через покровительство одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь неспособен к неблагородному поступку. Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя, в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит в вельможи!» – говорил Николай Сергеич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Ихменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться: справедливы ли слухи о браке? Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительства; но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук девятнадцати лет от роду. Я написал об этом к Ихменевым, а также и о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Все это я узнал от товарищей-студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее…
Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеичем одной сухой, деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах: он жаловался на своего сына, писал, что сын огорчает его дурным своим поведением; что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно (он, видимо, старался оправдать его), но что он решился наказать сына, попугать его, а именно: сослать его на некоторое время в деревню, под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на «своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну», просил их обоих принять его ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное, исправить его легкомысленный характер и «внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни». Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело. Явился и молодой князь; они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеич горячо полюбил его, не менее чем свою Наташу; даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алеше – так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверстою и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным, – он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его? Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветреность Алеши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты; доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных, эгоистических соображений. Николай Сергеич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нем с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алеша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и он и отец вместе, но что он, Алеша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким, веселым смехом; но Николай Сергеич тотчас же его останавливал. Алеша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться.
Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма и наконец до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню (о чем заранее уведомил Ихменевых), то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долее остаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь – настоящее его назначение. Все решения и увлечения Алеши происходили от его чрезвычайной, слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу… Вообще Николай Сергеич с трудом узнавал своего прежнего «друга»: князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеичу; в проверке счетов по именью выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрейшего Ихменева; он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского, четырнадцать лет тому назад: в это раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется из важнейших; к Николаю же Сергеичу он никогда не ездил и обращался с ним как будто со своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие: без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеичем. Подслушаны были горячие, обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околодку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лет) сумела влюбить в себя двадцатилетнего юношу; что и отец и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают; что хитрая и «безнравственная» Наташа околдовала, наконец, совершенно молодого человека, не видавшего в целый год, ее стараниями, почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться, в пятнадцати верстах от Васильевского, в селе Григорьеве, по-видимому тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали все до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений; а между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и… осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтоб оправдывать дочь свою пред кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя, не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней: от нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как двенадцатилетний ребенок.
Тем временем ссора шла все дальше и дальше. Услужливые люди не дремали. Явились доносчики и свидетели, и князя успели наконец уверить, что долголетнее управление Николая Сергеича Васильевским далеко не отличалось образцовою честностью. Мало того: что три года тому назад при продаже рощи Николай Сергеич утаил в свою пользу двенадцать тысяч серебром, что на это можно представить самые ясные, законные доказательства перед судом, тем более что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, все это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии, но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеича вором. Ихменев не стерпел и отвечал равносильным оскорблением; произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеич, за неимением кой-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил все и решился наконец переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле, а в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтоб повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба.
ГЛАВА V
Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней; но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою.
Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развилась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась, – и что за наслаждение было это отгадывание! Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо; он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытье, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, а об ней и подумать некому, и пускалась со мной в престранные откровенности, за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности.
Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил; они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как в самом деле объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала: что я именно делаю, и, когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел, наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились: так странно их это поразило! Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель – тот самый Ваня, который и т. д., и т. д., и все качала головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался; стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и наконец несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами, и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах! Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось, сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку.
«Сочинитель, поэт! Как-то странно… Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то все такой щелкопер, ненадежный!»
Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки (так памятны мне все подробности и все то золотое время!). В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались.
Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова; рассказывал про Пушкина, про Гоголя.
– Знаю, братец, все знаю, – возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. – Гм! Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени! Стихи гимназистам писать; стихи до сумасшедшего дома вашу братью, молодежь, доводят… Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше; так, эфемерное что-то… Я, впрочем, его и читал-то мало… Проза другое дело! тут сочинитель даже поучать может, – ну, там о любви к отечеству упомянуть или так, вообще про добродетели… да! Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь; любя говорю. А ну-ка, ну-ка прочти! – заключил он с некоторым видом покровительства, когда я наконец принес книгу и все мы после чаю уселись за круглый стол, – прочти-ка, что ты там настрочил; много кричат о тебе! Посмотрим, посмотрим!
Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав наконец экземпляр, прибежал к Ихменевым читать свое сочинение.
Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя! Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она… Но вот наконец мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго-строго судить, «сам увериться». Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно; чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу; что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да! пришло наконец это время, пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья, все вместе, все разом пришло! Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь… и вдруг испугалась: все же я был не граф, не князь, не владетельный принц или по крайней мере коллежский советник из правоведов, молодой, в орденах и красивый собою! Анна Андреевна не любила желать вполовину.
«Хвалят человека, – думала она обо мне, – а за что – неизвестно. Сочинитель, поэт… Да ведь что ж такое сочинитель?»
ГЛАВА VI
Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное – вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и все это таким простым слогом описано, ни дать ни взять как мы сами говорим… Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась: «Ну стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают», – написано было на лице ее. Наташа была вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает, – говорил он, – зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинки стояли в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою.
– Гм! вот она какая восторженная, – проговорил старик, пораженный поступком дочери, – это ничего, впрочем, это хорошо, хорошо, благородный порыв! Она добрая девушка… – бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня.
Но Анна Андреевна, несмотря на то что во время чтения сама была в некотором волнении и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить: «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» и т. д.
Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик было принялся опять «серьезно» оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся:
– Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно… Вон у меня там «Освобождение Москвы» лежит, в Москве же и сочинили, – ну так оно с первой строки, братец, видно, что так сказать, орлом воспарил человек… Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим все это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал. Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного… Ну да уж теперь поздно: напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет? Тогда опять деньги… Гм…
– И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? – заметила Анна Андреевна. – Гляжу на вас, и все как-то не верится. Ах ты, господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!
– Знаешь, Ваня? – продолжал старик, увлекаясь все более и более, – это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что, если б и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!
И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию.
– Или вот, например, табакерку дадут… Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может и ко двору попадешь, – прибавил он полушепотом и с значительным видом, прищурив свой левый глаз, – или нет? Или еще рано ко двору-то?
– Ну, уж и ко двору! – сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись.
– Еще немного, и вы произведете меня в генералы, – отвечал я, смеясь от души.
Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен.
– Ваше превосходительство, не хотите ли кушать? – закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать.
Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками:
– Добрый, добрый папаша!
Старик расчувствовался.
– Ну, ну, хорошо, хорошо! Я ведь так, спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты чувствительная! – прибавил он, потрепав свою Наташу по раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае, – я, вот видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал (далеко до генерала!), а все-таки известное лицо, сочинитель!
– Нынче, папаша, говорят: писатель.
– А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель; а я вот что хотел сказать: камергером, конечно, не сделают за то, что роман сочинил; об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти; ну сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы все это и с твоей стороны было благородно; чтоб за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтоб как-нибудь там, по протекции…